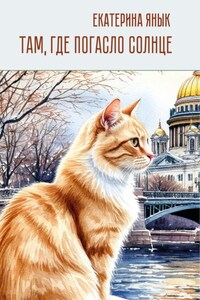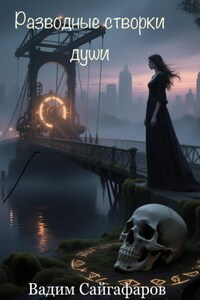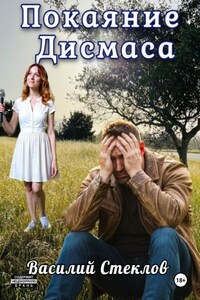Снежинки, кружась, опускались на подставленную ладошку девчушки. Ее юркий язычок подхватывал их еще на подлете: зверек, живущий в желудке, сегодня был особенно зол. Вокруг – поле повернутых к небу ладошек. Все в одинаковых грубых варежках, слишком широких, будто сшитых для кого-то другого. Поле одинаково голодных глаз. Поле безмолвного ожидания.
Минули годы с Великой Победы, но голод все еще хлестал наотмашь, зверее фашистов. Воспитательницы, пряча глаза, шептались: мол, опять засуха выдалась лютой, урожай не удался, запасов зерна не осталось. Раньше бы обвинили Бога, да его уже отменили, и теперь крайней становилась погода. Не правительство же.
Несколько ложек жидкой картофельной похлебки, куска хлеба, брюквы и, если повезет, сосульки-двух не хватало детским телам, и несколько раз в неделю свободных коек в детдоме становилось больше. Декабрь, завывая, ночами пролезал под ребра, но брать освободившиеся одеяла никто не решался: пустоту в желудках воспитателей заполняла злоба, а это страшнее холода.
Та зима в Вологодской области случилась снежная, слепящая, не то что ленинградская мрачность. Закутанная в колючий шарф – торчали лишь голубые глаза да часть красного носа, Пелагея подставляла ладошку крутящимся снежинкам, а шарф – солнцу. Но оно, обидевшись на девчушку, совсем не грело, а посылало вместо своих лучей царапающий снег.
Она точно знала, почему так.
Воспитательницы говорили, что все ребята в этом детдоме – бракованные. От гнилой осинки не родятся апельсинки, знаете ли. А стране нужны апельсинки.
– Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое… – слова скупо, по штуке вырывались из побелевших губ девочки. Широкая варежка инстинктивно прижималась к груди – туда, где еще недавно грел подаренный батей крестик. Ни крестика, ни бати.
– Хватит! – губы под шарфом обжег удар, но девочка не дрогнула. – Сколько раз повторять, забудь эту дурь! Твой поп-родитель – предатель, и тебе, его дочери, придется исчезнуть. Советская страна однажды спасла тебя, неблагодарную, вытащила из мракобесия. Она же и сделает из тебя приличного человека, даст светлое будущее.
Пелагея не нахмурилась, и воспитательница, заметив это, довольно улыбнулась. Девчонку привезли в вологодский детдом №17 из Ленинграда полгода назад. И тот, и другой – серые, мрачные. Она была как драная кошка: царапала других детей, рыдала ночами, кидалась на воспитателей, стоило им упомянуть ее корни, и – кошмар какой – беспрестанно молилась. Но чего еще ждать от дочери попа, врага народа?
– Ненавижу вас! Зачем вы меня забрали? – выла она, сидя в кадке с холодной водой, но наотрез отказываясь мыться. – Верните меня в Ленинград, там мои батя с матушкой, там Валя, я не хочу быть одна, я хочу к ним, верните меня обратно! Здесь противно!
Звон оплеухи – и долгожданная тишина.
– Нет больше твоих бати с матушкой, и Вали твоей больше нет, – однажды, не выдержав, разъярилась воспитательница. – Бросили они тебя, все лежат в мерзлой земле, и никакой «Бог» не помог. Откажись от своей порции – живо к ним отправишься. А нам сытнее будет.
В сумерках комнаты проступали одинаково бритые головы, как коршуны, голодно глядевшие на дрожащую в кадке сироту.
Пелагея знала: злые воспитатели врут. Батя с матушкой есть, и Валя есть – в жарких молитвах, в звучащих в ее мыслях голосах, в новогодних воспоминаниях.
Но почему они не приходят за ней?? Почему не заберут домой, в их квартиру на Фонтанке с ободранными кем-то во время войны обоями?
Неужели это из-за тех богохульных слов, которые она услышала во дворе и глупо повторила при бате? Он тогда разгневался так страшно, что она много часов пряталась у соседки тети Маши.