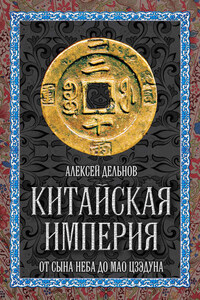В детстве мама ласково называла меня
«Паровозиком»: лет до восьми я была заводилой в любой компании. А в
мои одиннадцать мама родила Любушку. Это был 1990 год. Мое детство
быстро и как-то незаметно кончилось, и вовсе не потому, что мама
так уж часто заставляла меня возиться с малявкой. Нет, я сама
чувствовала ответственность за этот пищащий комок и проводила возле
неё всё свободное время.
Отец, как и многие мужики в
девяностые, очень быстро спился и исчез из нашей жизни полностью.
Мама впахивала на двух работах, но всё равно дома частенько не было
ничего, кроме картошки с собственного огорода и изрядно надоевших
бочковых огурцов.
Эта собачья жизнь не могла не
сказаться на мамином здоровье. Мне было двадцать два, когда мама
сгорела от онкологии. Мы всё еще на что-то надеялись. Я потратила
на поддержание надежды все копейки, отложенные на собственное
жилье. Но через два месяца на остатки денег я хоронила маму.
Последний наш разговор состоялся за день до того, как она впала в
кому:
-- Паровозик, Любашу только не
бросай. Обещай мне…
Любашке было одиннадцать лет, и
малявка была в совершенной истерике оттого, какой груз рухнул на ее
плечи. Ее пятый класс я и спустя много лет вспоминала с
содроганием. Опеку мне дали без особых проблем: все же я уже
работала крановщиком на местном заводе, и нам даже назначили пенсию
по утрате кормильца.
Голодать не приходилось, но у сестры
как будто крышу сорвало: она прогуливала уроки, дралась, связалась
с какими-то отбитыми девчонками, года на четыре старше её. И все
свободное от работы время я тратила на Любу. Бегала в школу
разбираться с учителями, а когда могла, отводила сестру туда за
руку. Таскалась по родителям тех самых девиц, угрожая им и их
дочерям всевозможными карами, если они не оставят малявку в покое.
И без конца разговаривала с ней, убеждая, что нужно жить
дальше.
Годам к тринадцати всё тихонечко
вернулось в свои берега, и я даже выдохнула на пару лет,
ухитрившись набрать смен и откладывать деньги сестре на
образование. Но в шестнадцать у сестрицы начался тот самый
переходный возраст, и в семнадцать она объявила, что встретила
любовь всей жизни:
-- …и ты ничего не сможешь сделать,
потому что у меня уже пять месяцев! Я все равно рожу, и мы
поженимся!
Пожениться особенно не получилось:
великовозрастный кавалер быстренько собрал манатки и уехал в одну
из дружественных республик, где у него были родственники по линии
отца. Сестра рыдала, клялась, что больше никогда, а я понимала, что
выбора у меня нет.
В общем-то, я так и осталась для неё
Паровозиком. Ей было восемнадцать лет и три дня, когда она родила
Павлика. Пособие для матери-одиночки было настолько мизерным, что
даже говорить не о чем. Я набрала смен, а в выходные, давая
отоспаться малолетней мамаше, таскала племянника на длинные
прогулки. Всё время нас спасала дача-кляча, оставшаяся от
благополучных, ещё доперестроечных времён. Домишко из палок и
фанеры был уже очень ветхим, но шесть соток в пригороде давали нам
возможность не просто питаться, а даже потихоньку растить
племянника.
Когда Паша пошел в садик, я
запихнула Любашу в вечернюю школу, а через год – на курсы
бухгалтеров. Ей было уже двадцать два, когда она наконец-то вышла
на работу. Жить стало существенно легче, но в родительской двушке
нам всем было тесновато. Тогда я начала мечтать о собственной
квартире.
Мечта чуть не рухнула в двадцать три
Любашиных года, потому что сестра снова оказалась беременна.
Правда, в этот раз всё было немножко лучше: имелся в наличии жених,
готовый отвести её в ЗАГС. На мой взгляд, он ничего особенного из
себя не представлял: работал на том же заводе, что и я, в должности
грузчика, был несколько ленив и не обременён жильем или машиной.
Витёк отличался смазливой внешностью и спокойным характером, так
что особо возражать я не стала: пусть их женятся.