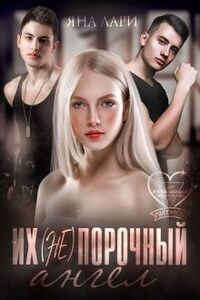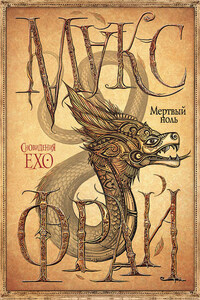– Пашка, прекрати! Вдруг кто-нибудь увидит? – прошу в который
раз. Жаркое дыхание молодого человека перемещается с моей ладони на
запястье, разливаясь по телу хмельной лёгкостью, а вероятность быть
застуканными, вместо того, чтобы отрезвить только придаёт остроту
ощущениям. Но потерять бдительность в нашем положении равносильно
прыжку с двадцатиметровой башни, в которую он меня так ловко
затащил. И это в лучшем случае. – Паш, не дури! Здесь толпы
туристов. Кто-то да заглянет. Отпусти. Нам нельзя...
– Плевать. – Из-под светлой рваной чёлки, дерзко сверкают
льдистые глаза и, вместо того, чтобы отойти на пионерское
расстояние, он продолжает чертить дорожку из поцелуев к локтевому
сгибу моей правой руки.
Влажные следы его губ холодит весенний ветер, но тело всё равно
пылает, будто изъеденные сыростью стены обдувает не сквозняками, а
жаром из преисподней. Пульс зашкаливает. Все чувства обострены до
предела. Шерстяная ткань платка кусает плечи даже через налипший к
взмокшей коже концертный костюм, а лёгкие саднит от острого запаха
кедровых досок, которыми устлан пол старой крепости. Всё, даже
сбитое дыхание причиняет жуткий дискомфорт, царапая горло вязью
несказанных слов, но разговор расходует время, а у нас всего-то и
есть, что эти несчастные пару минут перед новой разлукой.
– Паш, меня могли хватиться! – Мне приходится встать на носочки,
чтобы глянуть из-за его плеча, не появился ли кто в проёме
арки.
Чисто. Но это ненадолго, концертная программа подходит к
концу.
– Достали эти вечные прятки. Рада, тебе уже восемнадцать, так
сколько нам ещё зажиматься по углам, шарахаясь каждого звука? –
Пашкин жаркий шёпот уносит новый порыв ветра, с угрюмым упорством
таранящий узкую бойницу сбоку от нас. Ему приходится повысить
голос. – Не могу так больше. Давай сбежим.
– Ты серьёзно?
Отстранившись, я пытаюсь заглянуть ему в лицо, чтобы в глазах
найти ответ, на то, чему не верят уши. Если кто-то и способен всего
двумя словами перевернуть мой унылый мир с ног на голову, то это
определённо Пашка Князев, мой бывший одноклассник. Но сам он, будто
не расслышав вопроса, тяжело дышит мне в изгиб шеи. И его руки –
они везде. Путаются в тяжелой россыпи угольных волос, сминают шёлк
блузы, прижимая мой впалый живот все ближе к мальчишеским
напряжённым бёдрам. Всё твёрже, настойчивее проталкивают пальцы под
пёструю ткань платка к расшитому золотыми пайетками вырезу.
– Наври что-нибудь дома и приходи вечерком к старой общаге. Мне
друг на пару дней ключи от своей каморки оставил.
Сказал – как нож всадил под рёбра и вот уже ярость, а не страсть
застилает глаза. Ещё не хватало повторить подвиг своей
биологической матери: отличницы-тихони, не побрезговавшей
избавиться от позора в виде нагулянной дочери, продав её цыганке
прямо в роддоме. Папаша тоже, небось, на пару дней комнатушку
нашёл. Повеселился, обрюхатил и умыл белы рученьки. Ненавижу
обоих.
– Вот как... На пару дней значит, – шиплю внезапно севшим
голосом, пока Пашкины холодные пальцы, не дрогнув, скользят в
ложбинку между грудей. – Руки убери! – И, сердито шлёпнув по его
кисти, продолжаю: – Правду сестра говорила: у всех вас, парней,
одно на уме.
– Дура ты, Волошина, – досадливо цедит парень, нехотя отнимая
ладонь от моей бурно опадающей груди. В его бесстыжих глазах нет ни
капли раскаянья. – И сестра твоя дура. Нашла, кого слушать.
Думаешь, её муженёк, месяцами мотаясь по заработкам, на фотки её
наяривает? Приедет раз в полгода, малого ей заделает и дальше по
миру колесит. Ты так же жить собралась? Объясни, что плохого в моём
предложении? Хотеть любимого человека нормально! Ты меня с класса
девятого динамишь и я, как видишь, всё ещё рядом. Вот и решай
серьёзный я или нет. Только дело ведь не в этом, верно? Для одного
из толстосумов ваших себя бережёшь. На кой тебе какая-то любовь,
когда у меня за душой ни гроша, только покошенная халупа, мать –
безработная швея и батя инвалид. Куда мне с вашими женишками
тягаться? В кого ни плюнь – у всех дворцы да мерины. Прости,
принцесса, что смел покуситься...