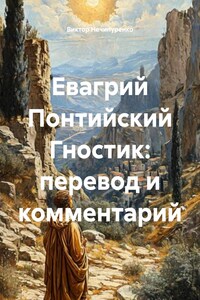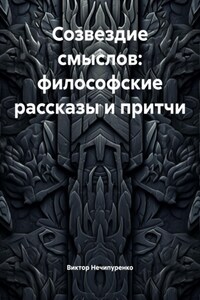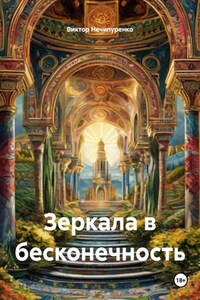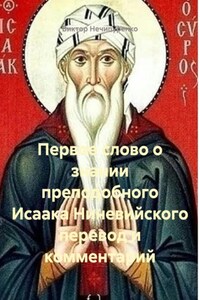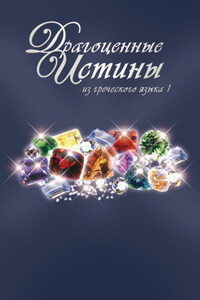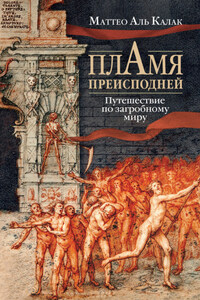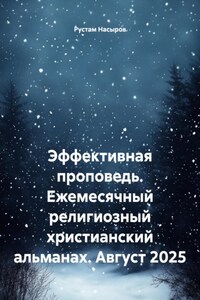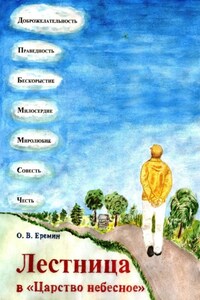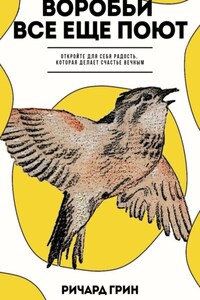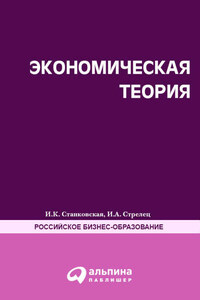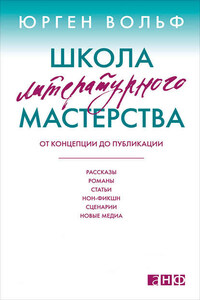Предлагаемое вниманию читателя издание «Гностика» аввы Евагрия Понтийского (345–399) – одного из самых глубоких и влиятельных, но вместе с тем и самых трагически непонятых мыслителей в истории христианской аскезы, – ставит перед собой задачу заново открыть этот краткий, но чрезвычайно насыщенный трактат для современного человека, ищущего серьезного и трезвенного подхода к духовной жизни. Являясь второй частью великой аскетической трилогии, которая начинается с «Практика» (Praktikos) и завершается «Гностическими главами» (Kephalaia Gnostica), «Гностик» посвящен темам высшего духовного ведения и правилам его обретения. К сожалению, этот важнейший текст, состоявший из пятидесяти глав, не дошел до нас в своей первозданной целостности. Оригинальный греческий текст сохранился лишь фрагментарно, в виде цитат и выдержек в более поздних святоотеческих компиляциях, и, по оценкам исследователей, нам доступно не более 60% первоначального произведения. Основная часть текста реконструируется благодаря древним сирийским и армянским переводам, которые, при всей своей ценности, ставят перед исследователем и переводчиком множество сложных текстологических и герменевтических задач. Несмотря на эту фрагментарность, сохранившиеся главы позволяют с достаточной ясностью восстановить замысел Евагрия: дать целостный образ идеального духовного наставника, кристаллизовать многовековой опыт александрийской богословской школы и египетского монашества в форме практического руководства для тех, кто, очистив собственную душу, берет на себя ответственность вести других к Богу.
В наше время, когда духовная жизнь нередко редуцируется до набора психологических приёмов или поверхностных эмоциональных состояний, строгий, интеллектуально честный и психологически точный подход Евагрия вновь обретает особую значимость. Он не предлагает лёгких утешений; напротив, перед читателем развертывается картина сложнейшего внутреннего мира. Его «гностик» – не просто подвижник, но, взыскующий ведения созерцатель, которому вменяется не только личная святость, но и мудрость, рассудительность, и – что особенно важно – пастырская любовь.
Настоящий перевод и комментарий ставили своей целью максимально точно и полно донести до читателя мысль этого выдающегося отца пустыни. В своей работе мы опирались на фундаментальное критическое издание текста, подготовленное Антуаном и Клер Гийомон в серии «Sources Chrétiennes» (№ 356), сверяясь с греческим и сирийским текстами, доступными на авторитетном ресурсе EvagriusPonticus.net. Бесценным ориентиром и источником вдохновения служил классический труд отечественной патрологии – «Творения аввы Евагрия» в переводе и с комментариями профессора А.И. Сидорова (1994), а также фундаментальная статья А.Г. Дунаева и А.Р. Фокина о Евагрии в «Православной Энциклопедии». Мы надеемся, что предпринятый труд послужит дальнейшему осмыслению наследия «философа пустыни» и поможет читателю найти в его наставлениях живое и действенное руководство.
I. Евагрий Понтийский: философ в пустыне, учитель Церкви
Жизнь Евагрия Понтийского – это драма подвижника, в которой личная судьба становится зеркалом великих богословских бурь IV века и веков последующих. Чтобы приблизиться к пониманию его учения, следует, быть может, сначала пройти – хотя бы мысленно – его путь: от блестящего ритора на кафедрах столичных городов к тишине египетской пустыни, от потока слов – к священному безмолвию.
В кругу великих каппадокийцев
Евагрий родился около 345 года в городе Ивора в Понтийской области, в семье хорепископа, т.е., сельского епископа. Его интеллектуальное и духовное становление происходило во времена расцвета святоотеческой мысли. Он был учеником и близким другом святителей Василия Великого и Григория Богослова, которые и ввели его в мир глубокой христианской философии, основанной на синтезе библейского откровения и эллинской мудрости, в первую очередь платонизма и стоицизма. Именно Василий Великий рукоположил его во чтеца, а Григорий Богослов, став архиепископом Константинопольским, взял его с собой в столицу, рукоположил во диакона и вскоре сделал своим архидиаконом.