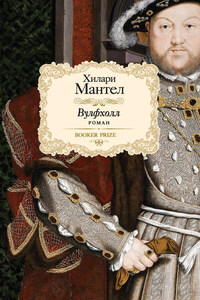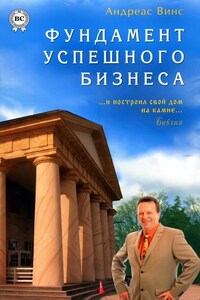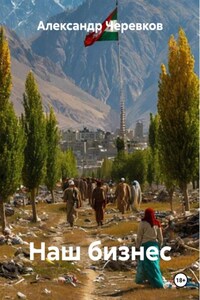Тишина в доме была особой. Густая, липкая, как варенье, в котором утонула оса. Она состояла из скрипа половиц под тяжёлыми шагами отца в прихожей, шипения масла на плите и сдержанного, почти неслышного всхлипывания матери за закрытой дверью её комнаты. Шестилетний Оливер научился эту тишину читать. Он сидел на краю кровати и выдёргивал ниточку за ниточкой из бока потрёпанного плюшевого зайца. Пока пальцы были заняты монотонным движением, он мог не думать. Не бояться.
Шаги в прихожей прозвучали не так, как всегда. Они были неровными, спотыкающимися. Оливер замер, пальцы сжав вокруг клочка синтепона. Он перестал дышать.
Звяканье ключей о дерево тумбочки. Громкое, раздражённое. Молчание. Поток невнятного, злого бормотания.
– Где он? – голос прозвучал хрипло.
Из-за двери гостиной, не открывая её, донёсся голос матери. Плоский, безжизненный.
– В своей комнате.
Дверь в его комнату с глухим стуком отъехала в сторону. Проём заполнила фигура отца. От него пахло потом, остывшим металлом и чем-то чужим, горьким.
– Что ты тут делаешь?
Оливер не поднял глаз. Он уставился в пол, считая щепки на половице. Один. Два. Три.
Резкий рывок за руку. Потеря равновесия. И только потом – огненная волна в щеке.
– Смотри на меня! – Отец наклонился над ним. – Опять сидишь, ничего не делаешь? В кого ты такой бездельник?
Пальцы впились в истрепанную игрушку, вырвали её.
– Опять эту дрянь теребишь? Никакой пользы от неё, как и от тебя.
Второй удар. Кулаком, в плечо. Третий – в бок. Оливер скулил, пытался свернуться калачиком.
– Весь в мать, – шипел отец, его дыхание обжигало лицо. – Та же слабость. Та же никчёмность. Из тебя ничего путного не вырастет. Ни-че-го.
Удары сыпались градом. Но больнее были слова. Они впивались в сознание, вгрызались в самое нутро.
– Хуже собаки дворовой! Та хоть охранять умеет, а ты только жрать да спать!
– Руки-крюки! Ничего сделать нормально не можешь!
– Молчишь? Я тебя спрашиваю! Отвечай, когда старшие спрашивают!
Оливер пытался ответить, но от страха язык не слушался. Это вызывало новую волну ярости.
– И на том спасибо, что хоть родился мальчиком, а то бы совсем выбросили на помойку, – отец уже не кричал, говорил сквозь зубы, и это было страшнее крика. – Только и радости, что паспорт получишь – и в армию. С глаз долой.
Когда отец устал, он швырнул истрепанного зайца в угол и вышел, хлопнув дверью. Оливер лежал, не двигаясь. Боль была всепоглощающей. Он сполз с кровати, подобрал зайца, прижал к лицу.
Дверь приоткрылась. В проеме стояла мать. Она смотрела на него своими холодными, пустыми глазами. В руке у нее была тарелка с кашей.
– Ешь, – сказала она и поставила тарелку на пол. – И перестань реветь. Мужчины не плачут.
Оливер посмотрел на нее.
– Мам… он…
– Сама виноват, – перебила она его. – Надо было слушаться. Не надо было злить. – Она уже поворачивалась уходить, но задержалась. – И вообще. Надо быть проще. Не принимать всё так близко к сердцу. Тебе же хуже.
Дверь закрылась. Оливер остался один. Он поставил тарелку на тумбочку, есть он не мог. Он сидел на кровати и пытался затолкать вату обратно в зайца. Его пальцы дрожали.
Слова продолжали звучать в его голове, сливаясь в один непрерывный поток: «никчёмность», «бездельник», «хуже собаки», «сам виноват», «не принимай близко к сердцу».
Он лег лицом в подушку, стараясь заглушить их. Но они были уже внутри. Частью его. И где-то глубоко в сознании, под этим шквалом унижений, рождалось тихое, холодное, беспощадное понимание. Что однажды этот поток придётся остановить. Не словами. Не мольбами.