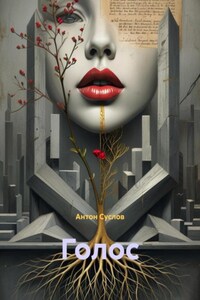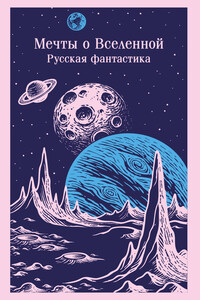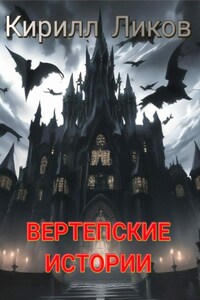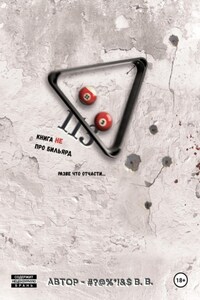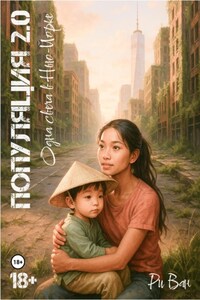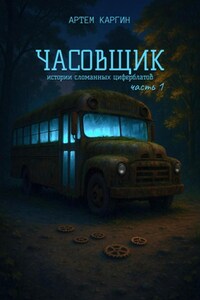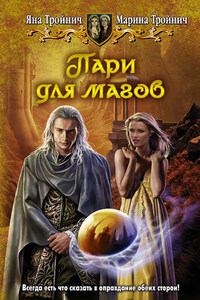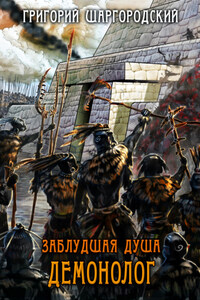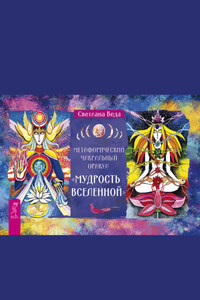Глава 1. Кабинет доктора Адамса
«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь»
– русская народная пословица.
Стекло в раме задрожало от порыва ветра, и старый доктор Адамс отложил в сторону книгу. Он уже собирался подняться, чтобы зажечь лампу, когда в дверь постучали. Стук был нерешительным, почти испуганным.
На пороге стояла молодая женщина, кутаясь в промокшее пальто. В руках она сжимала небольшой свёрток.
– Доктор, прошу вас, – её голос дрожал, и Адамс внутренне сжался, чувствуя, как с каждым её неверным, паническим словом её собственное время тает, как дым. – Это не для меня. Для… моего сына.
Она развернула уголок одеяла. Лицо мальчика лет пяти было бледным, дыхание едва заметным. Но самое странное было не в симптомах. От кожи ребёнка исходило тихое, ровное свечение – верный признак того, что его жизненный ресурс, его время, стремительно истекает, преобразуясь в чистую энергию. Так бывало, когда тело отказывалось бороться.
– Войдите, – произнёс Адамс, и это было не просто вежливой фразой. Это было разрешением, приглашением, гармоничным действием в данной ситуации. Он почувствовал лёгкий, почти неощутимый прилив сил – микроскопическую добавку к его и без того долгой жизни.
Женщина, Элис, рассказала историю, обрываясь и путаясь. Её муж, художник, несколько месяцев назад создал картину. Шедевр, как все говорили. Полную такой яростной, дисгармоничной красоты, что на неё невозможно было смотреть без слёз. Но после её завершения он стал чахнуть на глазах и через неделю умер, будто выгорев изнутри. А потом странная слабость настигла и их сына, Лео.
Адамс понимающе кивнул. Он видел такое. Оформившаяся мысль, вышедшая в мир, всегда требовала платы. Ложь, лицемерие, насилие над собственной душой при творении – отнимали годы. Истина, найденная гармония, слово, сказанное вовремя и к месту – могли их подарить. Художник, видимо, вложил в полотно невыносимый для себя внутренний конфликт, и картина стала вампиром, высасывающим жизнь сначала из творца, а потом, как эхо, – из самого близкого по крови существа.
– Он не болен, – тихо сказал Адамс, глядя на светящегося мальчика. – На него легла тень чужого диссонанса. Лекарства от этого нет.
– Но вы можете что-то сделать! Я слышала! Вы… вы лечите словами!
Она была права. Доктор Адамс был не просто врачом. Он был речевиком, логосом. Тем, кто умел находить слова, гармонизирующие реальность. Но это был страшный риск. Неверно подобранное слово, не попавшее в суть болезни, могло убить его на месте, выжечь все его оставшиеся годы в одно мгновение.
Он посмотрел на мальчика, на его безмятежное лицо. И на отчаянные глаза матери. Это был тот самый выбор, который определял суть его профессии. Лечить, рискуя собой.
Адамс закрыл глаза, отогнав суетные мысли. Он искал не диагноз, а суть. Причину дисгармонии. Он думал о художнике, о его боли, о любви, которая, должно быть, жила в нём рядом с болью. Искал то, что могло бы стать противовесом.
Затем он открыл глаза, наклонился к уху мальчика и произнёс всего одно слово. Не громкое, не пафосное. Простое, как дыхание. Но в нём была вся его жизнь, весь его опыт, вся его вера в исцеление. Это было слово «Прощение».
Он не обращался к мальчику. Он обращался к тени картины, к призраку отца, к незакрытому конфликту.
В комнате повисла тишина. Свечение вокруг Лео вспыхнуло ярче, заставив Адамса отшатнуться, – и тут же погасло совсем. Кожа ребёнка приобрела нормальный, здоровый цвет. Его грудь поднялась в глубоком, ровном вдохе. Он просто уснул крепким, исцеляющим сном.
Адамс откинулся на спинку стула, чувствуя страшную усталость. Он отдал за это исцеление, возможно, годы. Но вместе с усталостью пришло и другое чувство – глубокая, вселенская гармония. Он сделал то, для чего был рождён.