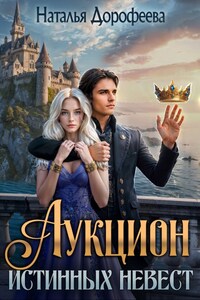Глава 1
«Сегодня состоялся торжественный
акт в петербургском женском медицинском институте, давшем первый
выпуск женщин-врачей. На акте присутствовал товарищ министра
народного просвещения Лукьянов. Директор института Отт произнес
блестящую речь, в которой отметил громадные заслуги женщин-врачей,
как на медицинском поприще, так и вообще в нашей жизни, указывая на
их постоянное гуманитарное влияние на
окружающих»[1].
«Известия».
Дерьмо.
Нет, жаловаться грех.
Иду, мать вашу, на поправку.
Семимильными шагами, можно сказать, шествую к огромному удивлению и
радости докторов, которые, кажется, начинают уверяться, что
случилось долбаное чудо. Правда, в глазах некоторых видится
недоумение, мол, почему чудо с этим-то.
Других ведь хватает.
Таких, которым чудеса куда как
нужнее. А они нет, не случаются. И те, другие, тихо помирают. А я
вот выздоравливаю.
Две недели прошло.
Две недели – это много или мало?
Если так-то, вполне прилично. Я и сидеть научился. И ем уже сам,
пусть и еда своеобразная. Нет, капельнички капают, никуда-то от них
не денусь, да и силёнок у меня, что у кутёнка, но…
Мне бы радоваться.
А не выходит.
Я раз за разом пытаюсь попасть туда.
Куда? Кто бы знал… в бред ли, в реальный ли мир, главное, что знаю
точно – мне туда надо. Я… я не хочу здесь больше.
Как будто давит всё.
Бесит.
Как будто оно всё вот вокруг –
ненастоящее.
От вежливых медсестричек до
стерильной белизны палаты. И приходится раз за разом душить в себе
раздражение, чтобы не сорваться на ком-нибудь. А оно не душится и
всё одно проскальзывает, пробивается едкими ли словами, взглядами
ли.
Ничего.
Они привыкшие. Они списывают на
болезнь и дурной характер, помноженные друг на друга. И улыбаются,
улыбаются… старательно.
Натужно.
Я это тоже вижу. И ещё сильней
бешусь. Только этого мало, чтобы прорвать границу. А она есть. Я
знаю, что есть. Я не сумасшедший.
Я должен.
Только не получается.
Цокот каблуков. Тяжёлый такой, будто
идущая дама норовит этими каблуками пол пробить. Или просто вес
сказывается? Весу моя дорогая сестрица к своим годам набрала
прилично, сделавшись не просто похожей на маменьку, но почти точною
копией её. Ну, насколько я помню.
Помню…
Криво.
Впрочем, плевать.
Круглое лицо. Волосы вот стрижёт
коротко и красит в яркий рыжий, в морковный такой оттенок. А
матушка её завивала на бигуди, такие, железненькие. Почему-то они,
эти бигуди, приклеившиеся к голове, посверкивающие из-под тонких
прядок металлом, намертво врезались в память.
Брови-ниточки.
Ниточки же губы, но потолще.
Два подбородка. Грудь тяжёлая, такую
не всякий подоконник выдержит. И бока складочками.
- Ну, - сестрица остановилась на
входе в палату, и даже охранник попятился. – Чего хотел?
- Увидеться?
Да, я сам позвонил ей. Вот…
наверное, слишком всё вокруг стало благостное, доброе и понимающее.
Или ещё по какой иной причине.
- А ты бодро выглядишь, - сказала
она, окинувши взглядом и меня, и палату.
- А ты постарела.
- Себя-то видел? – фыркнула
Виолетта.
И не обиделась.
Вот чую, что не обиделась.
- Так чего хотел-то?
- Веришь… сам не знаю. Поговорить с
кем-то из родни.
- То есть, всё-таки родня? – она
кинула на столик тяжеленную сумку из искусственной кожи и сама
плюхнулась на табурет. – Умаялась, пока дошла… слушай, а ты и
вправду, похоже, помирать не собираешься.
Виолетта вытащила пачку папирос,
поглядела на меня и, поморщившись, убрала.
- Тут же нельзя?
- Нельзя, - подтвердил я. – Но если
возьмешься меня на уличку вывезти, то и подымим.
- Знаешь, Викуська говорил, что у
тебя с башкой не лады, но чтобы настолько… - сестрица хмыкнула. – А
доктора тебя отпустят-то?
- Отпустят.
Не то, чтобы рады будут. Им волю
дай, так и вовсе меня в особо стерильной палате запрут. Но волю я
не дам, а что там рекомендации нарушаю… ну так умирающим можно.