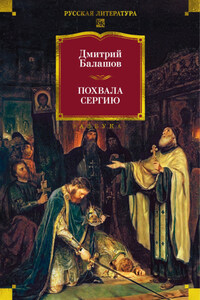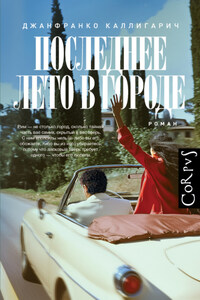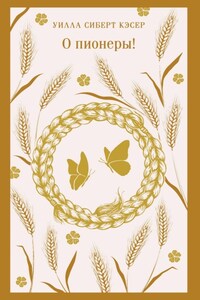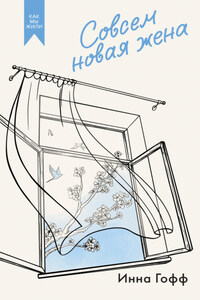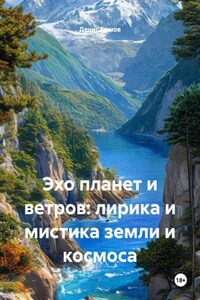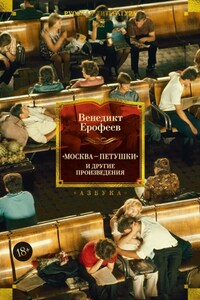С первыми проблесками рассвета зашевелились мухи. Особенно их привлекали веки Инмана и длинная рана у него на шее; жужжание мух и щекотное прикосновение их лапок действовали на нервы и способны были разбудить любого, причем с большей легкостью, чем дюжина петухов на птичьем дворе. Пришлось окончательно проснуться – так начался очередной день в больничной палате. Первым делом Инман разогнал мух, а потом, как всегда, бросил взгляд на вид, открывавшийся из распахнутого трехстворчатого окна в изножии его кровати. Обычно можно было рассмотреть красную грунтовую дорогу, большой дуб и низкую кирпичную стену, а дальше – простор полей и за ними до самого западного горизонта ровный полог соснового леса. Из окна палаты открывался хороший обзор на широкую равнину, поскольку госпиталь был построен на единственном здесь холме. Но сейчас, ранним утром, ничего из этого не было видно. Казалось, что окно закрашено серой краской.
Не будь в палате так тускло, Инман бы с удовольствием почитал до завтрака, поскольку книга, которую он читал, оказывала на него успокаивающее воздействие. Но последнюю из имевшихся у него свечей он сжег еще вчера ночью, поскольку читал допоздна, надеясь уснуть, а ламповое масло им выдавали весьма скупо, и расходовать госпитальные запасы масла на развлечения не разрешалось. Так что Инман встал, оделся и устроился у окна на стуле с прямой спинкой из поперечных планок, поставив его так, чтобы не видеть ни больничную палату, ни ее увечных обитателей. Он еще раз попытался разогнать мух, а потом стал смотреть, как за окном сквозь туман на небосклоне проступают первые проблески зари, и ждать, когда окружающий мир обретет свои привычные формы и очертания.
Окно было «французское», высокое, как дверь, и Инман не раз представлял себе, что за ним вдруг окажется какой-то совсем иной мир и нужно будет всего лишь перешагнуть через подоконник, чтобы в этом мире оказаться. Когда он попал в госпиталь, то в течение первых недель даже головы толком повернуть не мог, и единственное, что занимало его мысли, заставляя мозг работать, – это возможность смотреть в окно и представлять себе чудесные зеленые леса и поля, среди которых он когда-то жил в родном краю. Давно, еще в детстве. Он вспоминал влажную землю на берегу ручья, где росли «индейские трубки»[1]. Или ту часть луга, где осенью всегда собирались целые стада черно-коричневых гусениц. Или ту изогнутую ветвь могучего гикори, нависавшую над тропой; забравшись на эту ветку, он любил смотреть, как отец в сумерки гонит коров к загону. Они проходили прямо под Инманом, и он, закрыв глаза, слушал, как мягкий топот их копыт становится все глуше, а потом словно растворяется в треске кузнечиков и щебете птиц. Это больничное окно явно поставило себе целью заставить его непрерывно вспоминать прошлое, что, пожалуй, было даже приятно: он ведь успел весьма близко рассмотреть железный лик нынешнего века и был настолько потрясен этим зрелищем, что при мысли о будущем перед глазами у него вставал такой мир, из которого было изгнано – а может, само сбежало! – все то, что он считал для себя важным.
В окно госпитальной палаты Инман пялился в течение всего этого лета, такого жаркого и влажного, что сутки напролет, днем и ночью, казалось, будто на лице у тебя мокрое посудное полотенце, сквозь которое ты вынужден дышать; простыни на постели вечно были насквозь мокрыми от пота, а страницы книги, лежавшей на прикроватном столике, за одну ночь от избыточной влажности успевали покрыться мелкими черными пятнышками плесени. Инману казалось, что он так давно и пристально изучает это серое окно, что оно уже сказало ему все или почти все, что могло сказать. Но этим утром окно его удивило, пробудив в памяти воспоминание о том, что в школе он сидел как раз возле такого же высокого окна, служившего рамой для замечательного пейзажа – уходящих вдаль пастбищ и низких зеленых холмов, уступами поднимавшихся к пологим склонам громадной Холодной горы. Тогда был сентябрь. Нескошенная трава на лугу за утоптанным школьным двором доходила до пояса и уже начинала желтеть. Их учитель, маленький, кругленький, совершенно лысый, но с прекрасным розовым цветом лица, был облачен, как всегда, в свой единственный черный костюм, порыжевший от старости, и старые, со стесанными каблуками вечерние туфли, которые были так сильно ему велики, что носы у них задирались вверх. Он вел у старшеклассников уроки истории и, стоя посреди класса, вечно покачивался с пятки на носок, рассказывая о тех великих войнах, которые вела древняя Англия.