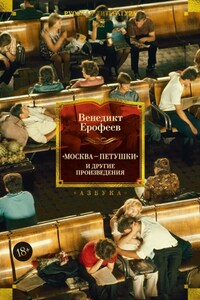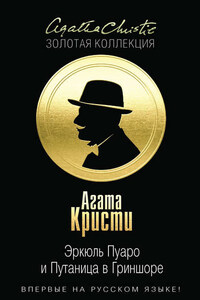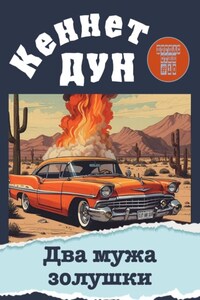«Я насадил тебя как благородную лозу, самое чистое семя;
как же ты превратилась у Меня
в дикую отрасль чужой лозы?»
Иеремия, 2, 21.
… Пулемётная очередь простучала совсем близко. Вслед за ней тут же рассыпалась вторая. Коротко защёлкали отрывистые винтовочные выстрелы. Пули завизжали, зацокали, метя стены, деревья, столбы, коновязи. Вскинулась, оборвав поводья, и повалилась, мелко дергая ногами, подстреленная лошадь. Кто-то громко и жалко завыл, вероятно, ужаленный пулей.
– Красные на хвосте! Уходим! Уходим! – закричал приведший банду бывший писарь полка Кирилл Голутвин, торопливо сдирая с плеч золотые поручичьи погоны. – Лиходеев! Дозорцев! Я вам говорю!
Казаки, дробно клацая затворами карабинов, вскакивали в сёдла и, пригибаясь к мятущимся по ветру гривам коней, рысью и намётом уносились прочь. Только несколько самых непримиримых и приверженных к крови продолжали расстреливать пленных, то и дело оглядываясь на дорогу, по которой стелилась наступающая красная лава, трудно сдерживаемая бешено отбивающимся арьергардом банды.
Озверевший хорунжий в разодранной черкеске бегал вдоль шеренги обречённых, опуская притупившийся от долгой рубки клинок на головы и плечи красноармейцев.
– В капустняк их! В окрошку!.. В печень… в душу… в звезду!..
Голос его оседал, срывался, переходя с сипа на хрип, пенно пузырящаяся слюна стекала с оскаленных зубов, а раскосые жадные рысьи глаза, казалось, не выдержат напряжения и лопнут, растекаясь по обрюзгшему усатому лицу жидкоструйными желтушными белками.
Семеро иссеченных шомполами и нагайками женщин в ожидании своей участи стояли у сарая. С ужасом наблюдая за жуткой расправой, ни одна из них не плакала и не молила о пощаде. Лишь жена комполка Переверзева, синеглазая, белокурая, тоненькая, как девочка, прижимала к себе девятилетнюю дочь и, закрывая ей глаза, шептала успокаивающе:
– Ничего, ничего… это всё скоро кончится… Слышишь, наши идут! Это папа… наш папа!..
Перестрелка усиливалась, придвигаясь всё ближе. За воротами штаба промелькнули несколько отступающих бандитов. И влетевший во двор черный всадник, похожий на ворона, в развевающейся бурке и косматой папахе, завизжал заполошно, размахивая маузером:
– Лиходеев! Заровский! Поручик Голутвин! Все по коням! Давай! Не задерживай, братцы!
Палачи с разбегу ловко вскакивали на коней, на скаку дорубывая и достреливая раненых.
– А шо с бабами делать? – захрипел хорунжий, осадив перед атаманом своего жеребца. – Господин есаул, а бабьё, шо ж, оставим?
– Да руби-и! – гаркнул тот. – Добивай, коль успеешь!
– И девчонку?
– А то! Иль с собой её, сучку…
Исступлённо огрев плетью то и дело шарахающуюся и встающую на дыбы вороную, есаул вихрем вынесся со двора, беспорядочно паля через плечо по каким-то видимым лишь ему целям.
– Ей-хе-хе! Ага-га-га! – сипло захохотал хорунжий и, пришпорив коня, налетел на женщин.
– Па-адай! -отчаянно вскрикнула мать, оттолкнув от себя дочку, и сама с длинным стоном тут же упала на неё, разнесённая от плеча до пояса сумасшедшим кривым булатом.
В тот же миг чья-то пуля достала хорунжего. Ухватившись рукой за грудь, он свалился с коня и, натужно повизгивая от страха и боли, на карачках пополз в конюшню. Но у самых дверей не менее жестокая сабля с беспощадной оттяжкой опустилась на его шею, и слетевшая с неё голова покатилась, безобразно подпрыгивая и кувыркаясь, под тяжёлые, запекшиеся в грязи и крови копыта распалённых красноармейских коней.
Кто-то сильный и плачущий, поднял девочку на руки… Кто-то что-то кричал ей в ухо… А она, обезумевшая и обеспамятевшая, молча всматривалась в искажённое мукой лицо отца и не узнавала его, молодого, тридцатилетнего, поседевшего сразу, в одну минуту.