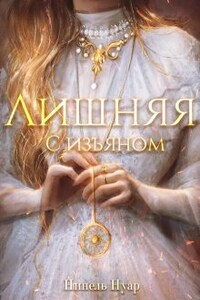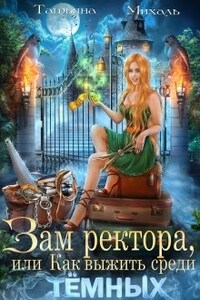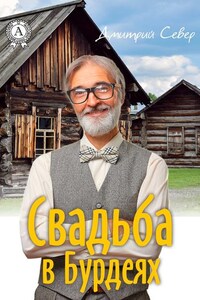Нет иной морали, кроме той, которая
основана
на принципах разума и вытекает
из естественной
склонности человека к добру.
П. Бейль
Через день Иван, Анька и я выехали из Белограда, а еще через три
кончились обжитые земли и мы снова оказались в первозданном лесу.
Большая царьградская дорога, широкой лентой тянущаяся от мерянской
столицы до самого Святогорья, в этих местах оказалась возмутительно
запущенной. Иногда она и вовсе превращалась в еле заметную лесную
тропу, на которой звериных следов было гораздо больше, чем
человечьих. Подобная халатность просто выводила из себя, но я как
обычно негодовала молча, а вот Анька не стала сдерживаться и весьма
ядовито поинтересовалась у Топтыги, как он, будучи представителем
правящей фамилии, прокомментирует сие безобразие? Пусть честно и
открыто скажет, кто должен следить за порядком на этой территории?
Кто виноват в том, что приличные девушки, уже четвертый день
вынужденные отбивать свои зад… филейные части о жесткие седла,
теперь еще должны продираться сквозь какие-то б…кие чащобы? Кому
предъявить иск за моральный и физический ущерб? Кого подвергнуть
кастрации без наркоза?
Иван слушал ее с блаженным выражением на веснушчатой физиономии,
по-моему, не особенно вдумываясь в смысл сих пламенных речей.
Нежные чувства к подруге были прописаны на его лице крупными
буквами, а Анькин голос, распугавший все птиц в округе, наверняка
казался ему сладчайшей музыкой.
Впрочем, где-то через полчаса Топтыга пришел в себя и честно
ответил:
- Да тут одни веслени селятся…
- И что?
- Ну, так… ничего. С весленьского тивуна, стало быть, спрос.
- Да? – подбоченилась подружка. – И когда последний раз
спрашивали?
- Да не знаю я!
- А кто знает, хрен с горы?!
- А я почем знаю?!!
Такой вот содержательный разговор.
Пока они препирались, я немного отстала и, порывшись в
притороченной к седлу сумке, достала мешок с сухарями и принялась
закидывать в рот по одному. После всего пережитого (особенно после
истории с зеркалом, о которой я убедительно попросила Аньку никому
не рассказывать) у меня прорезался чудовищный аппетит или, по
выражению подруги, яма желудка, не дающая покоя ни днем, ни ночью.
Есть хотелось постоянно, даже возникло ощущение, что пища
растворяется в моем организме раньше, чем я успеваю ее проглотить.
Иногда удавалось потерпеть час-другой, но в основном я только и
делала, что жевала. Когда еды под рукой не оказывалось, я обрывала
ветки растущих у дороги деревьев и, словно бобер-стахановец,
изгрызала их до состояния мочала, а потом, выковыривая из зубов
древесные волоконца, утешала себя мыслью, что клетчатка все-таки
полезна для здоровья.
На последнем постоялом (или заезжем, как тут говорили) дворе я
предусмотрительно запаслась провизией так сказать для личного
пользования. Не знаю, надолго ли ее хватит?.. Я с сомнением
заглянула в мешок – сухарей оставалось чуть меньше половины.
Правда, в сумке еще лежали несколько вяленых рыбин и пирожки с
ливером. Но неизвестно, доберемся ли мы сегодня до человеческого
жилья или предстоит ночевать в лесу. Я грустно потрепала гриву
своей соловой лошадки, угостила животное сухариком, а потом
решительно завязала мешок и сунула его обратно в сумку.
С этим путешествием все с самого начала получилось не так, как
мне представлялось.
Поражение Горыни в судебном поединке и последующее за этим
изгнание Остромира не принесло покоя в царские хоромы. Большинство
бояр было не слишком довольно. Против решения Божьего суда они,
конечно, выступить не посмели, но всем своим надутым видом
демонстрировали молчаливое несогласие с политикой высших сфер.
Партию недовольных возглавил царевич Вавила, оказавшийся тем самым
похожим на крысу товарищем, которого я заметила во время поединка.
Непонятно, кем ему был так дорог Остромир, ведь как только
печатника вывели за городские ворота и пинком задали направление
движения, должность вместе с царской печатью перешли к Вавиле. Что
касается Ивана, то его положение при дворе ничуть не улучшилось, и
вероятно поэтому Палагна отпустила Топтыгу с нами так быстро и
практически без возражений.