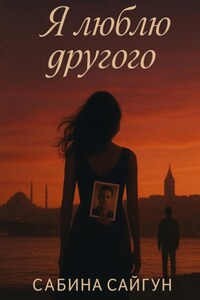Пролог: Эхо похищения.
Москва, октябрь 1915 года.
Осенний ветер, пахнущий подкрадывающейся зимой и дымом сгоревших подмосковных деревень и дешёвым керосином из лазаретных палаток, завывал за толстыми стенами особняка купца Грубова. Сторож Ефим, отставной унтер-офицер с сединой в щетине и вечной болью в левом колене, слушал это завывание и крестился медленно, с толком, как учила покойная матушка… Не для галочки, а потому что в этом гулком, полном теней доме стало страшно. Война казалась такой далёкой, когда он читал в «Московских ведомостях» о победах, но здесь, в Москве, она ощущалась иначе – в глазах беженцев, в скрипе санитарных повозок, в странной, липкой тишине, что опустилась на город, будто он затаился перед неизбежной бедой…
Сторож Ефим крестился медленно, с толком, как учила покойная матушка. Каждый крест, выводимый дрожащей рукой в предрассветной тьме, был не просто привычным ритуалом, а молением о спасении.
И от страха.
Молельня купца Грубова была не церковью, а скорее богато убранной кладовой для Бога – низкие, давящие своды, тяжёлые, в малиновом бархате, стены, и воздух, густой от ладана, воска и не слышимого шёпота накопленных за годы молитв. И вот – «Спас Ярое Око». Древний, почерневший от времени и, как казалось Ефиму, от людских грехов, образ. Глаза Спасителя, огромные, неестественно широко раскрытые, были написаны так, что с какой бы точки ты ни смотрел, они пронзали тебя насквозь, видя не лицо, а душу – все её тёмные закоулки, все спрятанные страхи.
«Не образ, а каратель», – думал Ефим, и с тех пор, как поступил на службу, чувствовал на себе этот тяжёлый, не моргающий взгляд. Боялся его пуще огня…
***
Перед тем как заступить на смену, он делился тревогой со сменщиком, молодым парнем Фомкой.
«Что-то нынче неспокойно, Фомка. Воздух колкий, будто перед грозой».
Фомка, щёлкавший семечки, лишь фыркнул: «Тебе бы, Ефимыч, не в сторожа, в монахи. Бесов в каждом углу чудишь. У купца замки английские, стены в поларшина. Кому тут украсть?»
«Не всякого вора замком удержишь, – мрачно ответил Ефим. – Есть такие, коим стена – не преграда. Словно тени…»
«Тени! – расхохотался Фомка. – Старость, она тебя в маразм вгоняет. Иди, сторожи свои тени»…
И вот он сторожил.
Тревога сосала под ложечкой, не давая уснуть.
«И чего я распугал себя? – пытался успокоить он сам себя. – Фомка прав, старею. Нервы из-за войны… Сыну там, на фронте, сейчас в сто раз страшнее, чем мне в этой тишине». Он представил сына, Петра, в окопах, под свистом шрапнели, и его собственный страх перед темнотой и тишиной показался ему мелким и постыдным. «Надо держаться, – внушал он себе. – Работа. Дом. Всё как обычно». Но ощущение, что «обычное» время кончилось и мир треснул, не отпускало…
***
Война шла где-то далеко, но её отголоски, словно уродливые эхо, заползали и сюда, в сердце города. В ушах у Ефима до сих пор стоял грохот салюта в честь какого-то взятия, а перед глазами – вереницы телег с ранеными, пылящие по московским мостовым. Мир сдвинулся с оси, и в такой мирокрути бесы чувствовали себя вольготнее.
Именно о бесе он и подумал, когда в четвертый раз за ночь пошёл обходить владения. Не из-за рвения, а потому что не спалось. Тревога продолжала сосать под ложечкой.
Всё было тихо. Только лампада перед киотом отбрасывала на пол трепетные блики, и в них плясали лики прочих икон. Все, кроме одной.
«Спас Ярое Око».
Древний, почерневший от времени образ, написанный, по слухам, ещё новгородским мастером. Глаза Спасителя, огромные, пронзительные, смотрели не в душу, а сквозь неё, видя все тайные грехи и немощи… Купец Грубов почитал его главной своей охраной и сокровищем. Ефим же с тех пор, как поступил на службу, чувствовал на себе этот тяжёлый, не моргающий взгляд. И боялся его…