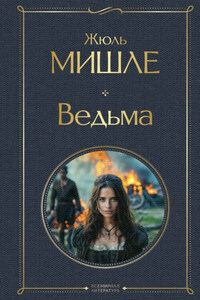- Я люблю тебя.
Я любила говорить это на русском. Именно ему, никому другому. От
этого вынужденного и бесконечно фальшивого немецкого "Ich
liebe dich" меня тошнило, как и от этого длинного мундштука, в
который раз за разом вставлялась длинная сигарета. У нее даже
привкус был тошнотворный, хотя многие Damen расхваливали этот табак
и потому мне тоже приходилось затягиваться со слащавой улыбкой,
рассыпаясь в благодарностях тому, кто снабдил меня очередной
пачкой. Я никогда не покупала сигареты сама, мало что вообще
покупала на свои деньги, которых правительство, впрочем, выделяло
предостаточно.
- Я люблю тебя.
Больше всего мне нравилось, когда он говорил это. Когда
называл по имени, моим родным именем, а не это "Hanna, Schatz!", от
которого тоже воротило. Хотелось засадить в эти пьяные глаза
шпилькой, да ещё и провернуть хорошенько, так, что бы помучить.
После ненавистных каблуков ужасно болели ноги.
- Это закончится, я обещаю.
Обещания всегда ими и оставались. Мы погрязли в этом дерьме по
самые уши. И как бы не пытались вырваться, раз за разом все попытки
срывались в бездну. А когда по радио прозвучали роковое
«Сегодня, 22 июня 1941 года...» уже появился единственный и
настоящий повод. Я сражалась, изо дня в день вела свой бой не за
верхушку, не за тех, кто после спляшет на наших костях, а за
маленькие и злобные глаза, за тех, кто умирал на другой стороне
этой войны.
Фальшивые стоны, чужие прикосновения, шепот "Gefällt es dir?" и
вынужденность соглашаться, кричать, что нравится, хотя на самом
деле мне никогда не было хорошо ни с одним из них. Кроме
него.
Я дрожала всем телом от одного только осторожного объятия, когда
нам удавалось побыть в двоем.
- Девочка моя.
Я таяла. Растворялась в его объятиях, мечтала спрятаться
там навсегда и была в тот момент крайне слаба.
- Я люблю тебя.
- И я тебя.
Он целовал меня медленно, не жадно и не грязно, как они, лишь
потом, когда я сама обхватывала его шею руками, он сильнее
прижимал на вид хрупкое тело к себе.
- Я не хочу терять тебя.
Испуганные карьи глаза.
- Никогда.
И мне было противно иной раз смотреть на себя. Девушка,
почти замужняя девушка, которая вынуждена спать с кем
придётся ради информации. Хуже всего было, когда те люди
оказывались пустышками, стоящими одной лишь пули и ничего более. И
тогда я разбивалась, курила на вылизанной до блеска
кухне в одиночестве, потому что для всех я была Fräulein.
Это был обычный вечер в парке. Я прогуливалась с недавно
подцепленным на крючок парнем. Еще совсем зеленый, с ярым блеском и
вдохновением в глазах. Под его сапогами скрипел снег, а мои следы
оставляли витееватую дорожку из отпечатков каблуков. Зима в
Германии только начиналась. Этот ноябрь 1942 года был вполне щедр
на снег. Крупные хлопья снега кружились в свете фонарей и сегодня,
медленно оседая на плечах пальто. Черное, оно идеально сидело по
фигуре, подчерчивало легкий стан и расправленный плечи.
Идеальная осанка. Идеальная походка. Все было вечно настолько
идеальным, что мне хотелось разбить ненавистное зеркало дома, лишь
бы только не смотреться в него лишний раз.
Вечер был наполнен тревожностью. Несколько раз я даже нервно
рассмеялась, на что мой спутник даже не обратил внимания. Он с
самого начала встречи болтал о Гитлере, о мнимых его успехах в
войне, чем бесконечно утомлял. Внезапно все планы этого
низкорослого кретина рухнули и кто бы мог подумать, что руку к
этому приложили такие же, как и я. Я слышала, что Матвея поймали с
месяц назад и через неделю пришлось поднимать тосты за поимку
коммунистического мерзавца. Как же! Такой успех - изловить
одну крысу, когда штаб Берлина полнился ими, пусть и на нижних
уровнях. После резкого проигрыша немцы стали осторожнее выбирать
кандидатур даже в офицеры, что уж говорить о более высоких званиях.
Впрочем, Степа успешно полз вверх по адской карьерной лестнице,
грыз глотки, шел по голосам и за это местное начальство его
бесконечно обожало. Маска наглого подлеца и почти психопата
приклеилась к парню намертво, что несколько волновало меня. Встречи
с ним были слишком редкими, что бы провести пол ночи только за тем,
что ему срывало крышу.