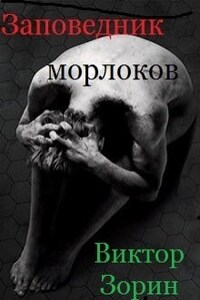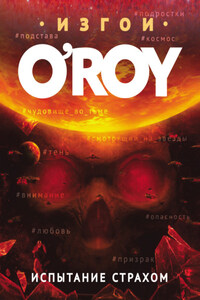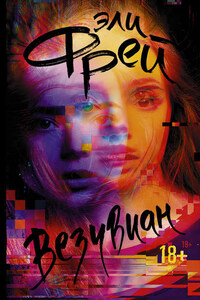Лил дождь. Да какой там дождь,
самый настоящий ливень. Дороги в Грохове размыло, и проехать по ним
не представлялось возможным. Больше всех досталось панскому
поместью. Если в деревне имелись кое-где мощеные хорошим камнем
улицы, а пан предпочитал именно так называть участки между домами,
то усадьбе не повезло. Она оказалась отгорожена водой, а
разлившаяся река только добавила проблем. Крестьяне искренне жалели
господские сады, а слуги в доме и самого господина, потому как он с
утра уехал на охоту и до сих пор не возвращался.
Раздался стук копыт. В ворота
влетел вымокший до нитки всадник в охотничьем кунтуше. Он резво
соскочил с порядком уставшей лошади, кинул поводья старому конюшему
и прошел в дом.
— Мопанку, да вы с ума
сошли! — Юзефа, пожилая служанка и бывшая кормилица пана,
подбежала к вошедшему. — Дождь уже два часа идёт, а вы только
сейчас примчались.
— Юзефа, не серчай, —
мужчина улыбнулся. — Ты знаешь, что я здоров как бык.
— Доведете вы себя,
мопанку, — служанка забрала у него ружье и охотничью сумку.
— Быстро греться!
— Добро, только не
сердись, я тебя боюсь, — пан звонко расхохотался.
— Баловник! Всё пани
Телимене напишу, — беззлобно отозвалась Юзефа.
— Мне двадцать шесть лет.
Тётушка уже давно умыла руки, — мужчина широко улыбнулся и
взбежал по лестнице, уже оттуда крикнув: — А зайца всё ж
пристрелил!
***
Матиуш Камил Вишнивецкий
родился на длинном и болезненном рубеже не просто веков, а целых
эпох, и представлял из себя человека склада нового и сумасбродного.
В борьбе меж старой и новой шляхтой он выбрал вторую и вскорости
отошёл от любых славянских корней, предпочтя европейский путь. Так
вышло, что вместе с тем, как рос и менялся Матиуш,
преобразовывалась и его родина — Речь Посполитая. Улицы
Варшавы и Кракова постепенно наполнялись пышными платьями и
камзолами, дома из деревянных становились каменными и вычурными,
словно на парад, а умы ширились и алкали нового и неизведанного. В
тот век родилось много прекрасного и уродливого, и Вишнивецкий
нежданно-негаданно, но вполне желанно оказался у руля этих
перемен.
В его обществе не встречалось
людей старше тридцати, вокруг говорили по-французски, а народные
мотивы заменили менуэты, чтобы уж наверняка отделить это
образованное, молодое, лощёное дворянство от старого и
закостенелого. Слово «шляхта» в этом кругу не употреблялось,
заменённое холодным и возвышенным «аристократия». Так теперь
обреталась жизнь.
Матиуш был горд и рад слыть
человеком образованным и новым. К двадцати пяти годам из множества
действительно близких родственников у него осталась только пожилая
тётушка, души не чаявшая в своём племяннике. Она не одобряла его
поведения и занятий, но прощала совершенно всё, лишь изредка
решаясь спорить. «Нет, Матиуш, нельзя так, нельзя от прошлого
отказываться, уж коли оно есть», — почти что ласково ворчала
она. «Но как же тётушка, если мир меняется? И вскоре не останется
ничего старого, даже шведы, что ходили на нас в конце прошлого
столетия, решили, что не могут оставить это, как раньше, и пришли
ещё раз, в начале нынешнего, стёрли свой былой след,
исправились!» — смеялся её Матиуш, приводя ей самые глупые и
абсурдные аргументы, впрочем, действовавшие так, как надо.
Не укрылось от молодого князя
Вишнивецкого и такое прелюбопытное явление, как масоны. Они,
казалось, вели этот мир вперёд, помогая ему становиться лучше и
ближе. Именно у них Матиуш тесно познакомился с Просвещением. Это
веяние, это мировоззрение с лёгкостью заменило ему христианство, и
Вишнивецкий почти сразу уверился в том, что это единственно
истинный и верный путь, не приемлющий какого-либо обмана и
лицемерия. Ещё более ему понравилось то, что этот путь не говорил
жениться и обзаводиться детьми, бесполезно сидеть в салонах и
слушать унылые политические речи, а обратиться к облагораживанию
всего вокруг и помогать людям.