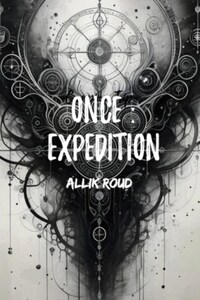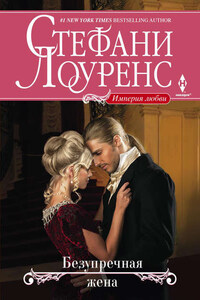Дождь бил по жестяной крыше с яростью пулеметной очереди, словно небо решило расстрелять землю из всех стволов сразу. Внутри старого саманного дома царил душный полумрак. Единственным источником света был огонь в печи – живой, трепещущий, бросающий длинные тени на глиняные стены.
Ажар выпрямила спину, и позвонки отозвались громким хрустом, – так хрустят сухие ветки. Семьдесят лет – немалый срок даже для повитухи, видевшей сотни родов. Ее лицо в глубоких морщинах, походивших на высохшие русла рек, блестело от пота. Но глаза оставались острыми, внимательными, как у хищной птицы, высматривающей добычу. Или опасность.
На топчане, устланном овечьими шкурами, металась Гульнара, издавая истошные крики. Девятнадцать лет, первые роды.
– Врача… надо врача… – бормотал Ержан, ее муж, тощий парень с трясущимися руками. Он топтался у двери, не зная, куда себя деть, словно лишняя деталь в отлаженном механизме родов.
– Какого врача, дурень? – рявкнула Ажар, не отрывая взгляда от роженицы. – Мост снесло еще вчера. Никто не доедет. Даже если б захотел.
Она не договорила главного: даже если б успел. Потому что видела то, чего не должно было быть на этой стадии родов – слишком много крови. Темной, густой крови, пропитывающей шкуры под Гульнарой. Недобрый знак. Очень недобрый.
Гульнара вдруг перестала кричать. Ее глаза, до этого закрытые от боли, распахнулись и уставились в темный угол комнаты.
– Она здесь, – прошептала девушка севшим голосом. – Я чувствую ее. Она идет за моим ребенком.
Ажар почувствовала, как по спине пробежал холодок. Не от слов роженицы – в бреду чего только не скажешь. А от того, как вдруг затих дождь. Как замерла сама ночь, словно притаилась в ожидании.
– Тише, дочка, тише, – попыталась успокоить ее старуха, но сама бросила быстрый взгляд на окно. За стеклом, залитым потоками воды, чернела непроглядная тьма. – Это просто боль говорит в тебе.
Огонь в печи вдруг дрогнул. Не погас, а умер, словно кто-то невидимый наклонился и выдохнул на него ледяным дыханием. Пламя сжалось, посинело и исчезло, оставив только тлеющие угли, которые тут же начали покрываться серым пеплом.
Темнота обрушилась на комнату, как лавина.
– Спички! Где спички?! – Ержан бросился к полке, на ощупь нашаривая коробок.
Чирк. Вспышка. И тут же – темнота.
Чирк. Еще вспышка. И снова мрак поглотил крохотный огонек.
– Не горят… почему они не горят? – голос Ержана дрожал на грани истерики.
И тогда они услышали это.
Сквозь возобновившийся шум дождя, сквозь стоны Гульнары, сквозь собственное тяжелое дыхание – тихий, булькающий женский смех. Он шел со стороны реки, просачивался сквозь щели в стенах, заполнял комнату, как ледяная вода. Смех казался неестественным, в нем не было ничего человеческого.
Ажар застыла. Она слышала этот смех раньше. Сорок лет назад, когда была еще молодой помощницей старой повитухи. Тогда за одну ночь погибли три роженицы и их дети. Всех нашли наутро иссохшими, словно из них высосали саму жизнь.
– Албасты, – одними губами прошептала старуха, и дикий ужас сжал ее сердце железной хваткой.
Смех становился ближе. Он уже не снаружи, он в комнате, кружит вокруг них, как голодный зверь вокруг загнанной добычи.
Ажар на ощупь пыталась помочь Гульнаре. Ее опытные руки, принявшие сотни младенцев, вдруг погрузились во что-то теплое, липкое, бесконечное. Слишком много крови. Невозможно много.
– Нет, нет, нет… – бормотала она, понимая, что проигрывает этой древней тьме.
Ребенок выскользнул в ее руки внезапно, словно его вытолкнула невидимая сила. Маленький, скользкий, неподвижный. Ажар провела пальцем по его ротику, пытаясь очистить дыхательные пути, похлопала по спинке. Ничего. Тишина.