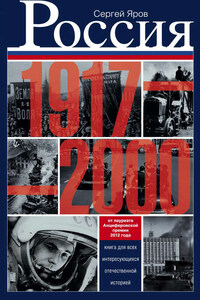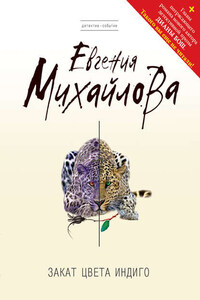Память – предательница. Она не хранит прошлое, как аккуратные папки в архивной коробке. Она рвет его на клочки, перекраивает, затушевывает одно и безжалостно выпячивает другое. А потом подсовывает тебе этот витраж из обрывков и шепчет: «Вот оно. Вот твоя правда».
Моя правда вот уже пятнадцать лет пахнет морской солью, смолой и страхом.
Тот вечер впился в меня осколками, острыми и незаживающими.
Холод шероховатых досок пирса под босыми ногами. Я быстро шла, задыхаясь, спотыкаясь о забытые кем-то канаты. Свитер был тяжелым от сырости ночного тумана, нависавшего над Железным мысом.
Я искала отца. Мы поссорились за ужином, он сказал что-то жесткое и бесповоротное, а я, шестнадцатилетняя, с разбитым сердцем и уязвленным самолюбием, выскочила из дома. Он не побежал вслед. Значит, мне нужно было самой найти его и… И что? Еще раз попытаться убедить в своей правоте? Или услышать, что он был прав?
Впереди, у самого конца пирса, у старого разрушенного маяка, мерцал тусклый свет карманного фонаря. И голоса. Не только отца. Еще один, сдавленный, гневный. Я замерла в тени, прижавшись к холодной стенке бункера для сетей.
Я не различала слов. Только ритм: отцовский бас – ровный, властный, будто рубящий воздух. Другой – визгливый, отчаянный. Потом этот другой сдавленно взвизгнул, и этот звук впился в меня лезвием. Что-то тяжелое упало на дерево с глухим стуком.
И потом… тишина. Предательская, звенящая тишина, нарушаемая только шуршанием волн о сваи.
Я боялась пошевелиться. Боялась дышать. В темноте я различала два силуэта. Один – высокий, знакомый до боли. Отец. Он что-то делал, его движения были резкими, точными. Второй… второго будто и не было.
Потом скрипнула древесина, и я услышала всплеск. Тяжелый, окончательный. Как будто море с удивлением приняло в себя то, что ему не принадлежало.
Я отшатнулась, и под ногой хрустнула ракушка. Звук был оглушительным, как выстрел. Свет фонаря резко рванулся в мою сторону, ослепив, выхватив из мрака мое бледное, перекошенное ужасом лицо.
На секунду я увидела глаза отца. В них не было ни удивления, ни гнева. Только ледяная, бездонная пустота. Взгляд, который смотрел сквозь меня, мимо меня, в какую-то иную, страшную реальность.
Я побежала. Не оглядываясь. Сердце колотилось о ребра, выпрыгивая наружу. Я бежала по спящим улицам Железного мыса, и казалось, что темнота преследует меня по пятам, а из каждого переулка на меня смотрит тот пустой, невидящий взгляд.
Наутро я заболела. Горячка, бред. Когда я пришла в себя, мать сказала, что мне все почудилось из-за температуры. Что я никуда не бегала, что отец вернулся домой рано и читал в кабинете. Что в городе все спокойно.
Никто не пропал. Ничего не случилось.
И я поверила. Потому что была ребенком. Потому что так было проще. Я спрятала этот ночной кошмар в самый дальний угол памяти, завалила его грудой будней, учебой, планами на побег.
Я уехала из Железного мыса и старалась не оглядываться назад. Я строила свою жизнь, как хороший архитектор – по чертежам, на прочном фундаменте, без темных подвалов и призраков прошлого.
Но память – предательница. Она все хранит.
И когда спустя пятнадцать лет я получила звонок о смерти отца, тот самый осколок – запах смолы, звук всплеска и ледяной взгляд – вонзился в меня снова.
Он напомнил, что некоторые тайны не умирают. Они просто ждут, чтобы их откопали.