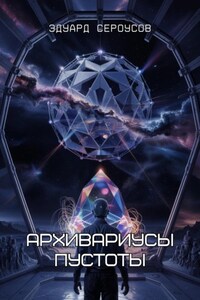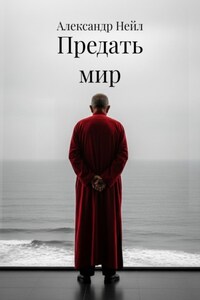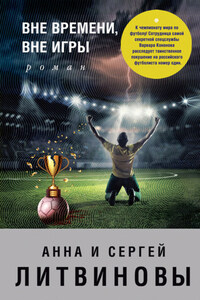В этой старой квартире шум никогда не кончался. Он жил в стенах, как плесень: сверху – шаркающие шаги, справа – вечный телевизор, в подъезде – хлопок двери, который узнаёшь по звуку, как знакомый голос. Вечером в коридоре пахло варёным луком из 43-й, стиральным порошком из 39-й и сыростью из подвала. Шум был узором этой жизни: как обои – всегда здесь, всегда одинаковый.
Отец открывал дверь ключом, который научился поворачивать без скрипа, клал связку в эмалированную миску у входа (дзынь – по расписанию), садился прямо в куртке на край табурета, как на привале. На стол выкладывал три листка – «коммуналка», «кредит», «разное» – и писал карандашом аккуратные квадратики для галочек. Он держал хаос списками. Вслух мог едва слышно считать:
– Раз, два, три, – перекладывая счета, – раз, два, три…
Мать ходила по квартире с полотенцем на плече, будто с флагом маленькой страны по имени «Порядок». Она умела делать уют из ничто: протереть стол, переставить кружки, замолчать вовремя. Иногда задерживала взгляд на потолке – там расползалось пятно, похожее на карту неизвестной области. «Ещё немного. Выберемся», – говорила она себе и шла ставить чайник.
Аня жила между экраном и зеркалом. В зеркале – лицо, с которым она то спорила, то мирилась; в экране – мир, где она была услышана. Дома она чаще молчала, защищаясь сарказмом как щитом.
– Переезд решит всё, да? – бросала через плечо. – Ну да. Сразу зацветут вишни, и пятно на потолке уйдёт само.
Сарказм помогал не расплакаться. В школе её считали острой на язык, дома – «закрытой».
Даня из любой клетки делал карту. Рисовал карандашом план квартиры, отмечал «тайные ходы» между табуреткой и стулом, измерял линейкой расстояние от дивана до балкона, ставил стрелочки: «сюда – взапас», «здесь пролаза нет». Любил «впервые»: впервые найти в кладовке коробку с пуговицами, впервые пройти коридор, не задев плечом косяк, впервые услышать в батарее ритм «та-да-дам» и принять это за сигнал.
Тимур был тихим и внимательным. Держался за мамин халат, как кораблик за причал. Иногда говорил фразы, от которых взрослые переглядывались.
– Не ходи туда, – произнёс однажды, глядя в конец коридора. – Там что то дышит.
Мать погладила его по голове и закрыла ту сторону, где давно перегорела лампочка.
Про дом отец сказал впервые поздним вечером, когда сайт с объявлениями уже подтормаживал. На фотографиях – деревянный, будто снятый без людей и времени. Чердак как выдох, окна без отражений. Крыльцо короткое, ступеней вроде три. Или четыре. Отец увеличивал, щурился, уменьшал – и ловил себя на улыбке уголками губ.
– Смотри, – позвал он. – Наш шанс.
Мать подошла, отодвинула ноутбук на ширину ладони – как горячую кружку, – и долго молчала. Дом был не красив, а отдельный. У него была своя тишина – ощутимая, как вещь.
– Сколько? – спросила.
– Меньше, чем должно, – ответил он.
Оба знали: «меньше» – не всегда «хорошо». Но в их словаре «доступно» давно значило «попробовать».
Они поехали смотреть. Дорога тянулась, будто кто-то тащил её за бечёвку. Мелкая морось делала воздух низким. У дома пахло деревом, железом и мокрой землёй. Риэлтор – слишком улыбчивая женщина в светлой куртке – говорила карточными фразами:
– Дом сухой. Фундамент крепкий. Крыша новая.
Отец в это время считал. Шаги от калитки до крыльца – восемь «больших». Доска на третьей ступени сказала «мм», как будто в ней поселилась капля. Он постоял на ней и записал в блокнот одно слово: «Запомнить».
Мать ладонью касалась поверхностей – спрашивала их молча: выдержите ли вы наши тарелки, ложки, сны? На кухне треснувшая плитка рисовала солнечные лучи из угла – странная красота. Она приподняла крышку подпола, вдохнула сырость и железо, закрыла – будто рот тайне.