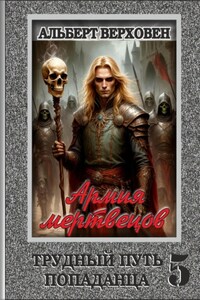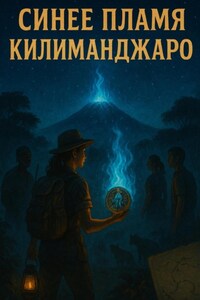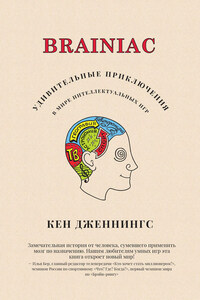Глава 1. Голодная Зима в Велесове
Зима в тот год вцепилась в Велесово с мертвой хваткой. Снег не шёл – сеялся, колкий и мелкий, словно костяная пыль. Он скрипел на зубах у ветра, забивался в щели бревенчатых стен и ложился на поля бесконечным, окостеневшим саваном. В курене, несмотря на ненасытную печь, воздух оставался с тяжелевшим от стужи. Он был насыщен густым духом дыма, кислой пряностью кваса и тлением немытой кожи – неразлучными спутниками затянувшегося до самого дна лихолетья.
Богуслав сидел на грубо тёсаной лавке, не сводя глаз с пустого горшка, возвышавшегося на столе, как намогильный памятник. Его руки, ещё недавно с лёгкостью валившие сосны и рубившие срубы, бессильно лежали на коленях, и в их одеревеневшей мускулатуре таилась горькая ирония: сила, что с легкостью валила сосны, оказалась ничтожной перед пустотой закромов. Он чувствовал на себе взгляды – каждый особый, невыносимый по-своему. Пристальный, выцветший от безысходности взгляд жены, Полусы, чьи пальцы безостановочно теребили веретено, пытаясь выпрясть из пустоты хоть крупицу надежды. Тревожные, исподлобья взгляды детей: Снежаны, прильнувшей к материнскому плечу, Дивобора, с мрачным упорством ошкуривавшего сучковатую палку, и малого Жареслава, в чьих когда-то озорных, а ныне распахнутых от непонятного ужаса глазах застыл голодный вопрос.
– Кончилось, – хрипло проронил Богуслав, и привычно твёрдый голос его прозвучал чужим и придавленным. – И зерно, и репа. Остались сушёные грибы, да вяленая рыба. На неделю. От силы.
Полуса вздохнула, не отрываясь от монотонного вращения. Её тихий голос был плоским, как поверхность мёртвой воды.
–Староста приходил. Спрашивал про долг. За прошлый хлеб. Сказал, к весне не отдадим – пойдём в кабалу. Отрабатывать.
Слово «кабала», тяжёлое и липкое, повисло в прокуренном воздухе, словно смола. Дивобор с силой ткнул заострённой палкой в половицу.
–Не пойдём! – выкрикнул он, и юный голос его сорвался на визгливый надрыв. – Я в лес уйду! Волком стану!
–Молчи, дитятко, – беззвучно оборвала его мать. – В лесу тебя медведь-шатун или леший до первой ночи доконает.
Дверь с скрипом отворилась, впустив вихрь ледяного воздуха и трёх заиндевелых фигур. Впереди шёл Голядь, за ним – угрюмый исполин Гудомир и вечно ухмыляющийся Грозя, чья улыбка сегодня походила на оскал. На плечах у них болталась одна тощая тетерка.
–Вот и вся добыча, – отрывисто бросил Голядь, швыряя на лавку шапку, покрытую ледяной коркой. – Лес пуст. Словно выметенный. Ни зверя, ни птицы. Словно кто-то выжег всё дотла.
–Или увёл, – мрачно пробасил Гудомир, его голос пророкотал, как подземный гром. – Духи не благоволят. Чую я. Земля не родит, лес не кормит.
Грозя попытался вставить свою привычную шутку, но она вышла горькой и неуместной:
–Может, нам и впрямь в лешие податься? Голядь – главным, он и так ворчит, как лесовик на солнцепёке. Я буду дурачествами его тешить, а Гудомир – громыхать, чтоб путники с дороги сворачивали.
Никто не улыбнулся. Голядь, брат Богуслава, бывший дружинник князя Ратибора, молча принял из рук Полусы чашу с пустой похлёбкой. Он был немым укором самому себе, ибо его старые раны, заслуженные на службе у яростного князя, не ныли так сильно, как рана от собственного бессилия. Он когда-то отбивал атаки печенегов, но не мог отбить свою семью от невидимого врага – голода.
Вечер тянулся, бесконечный и тёмный, как смоль. Жареслав уснул, всхлипывая во сне. Снежана, кутаясь в посконный платок, смотрела на огонь, и ей чудилось, что в багровых языках пламени пляшут неведомые, зовущие тени. Она всегда чувствовала больше других. Шёпот листвы был для неё речью, журчание ручья – песней. А сейчас лес за стенами молчал, затаившись, будто прислушиваясь к чему-то важному.