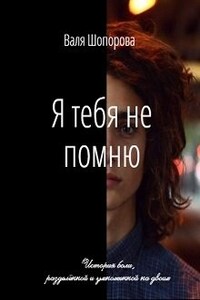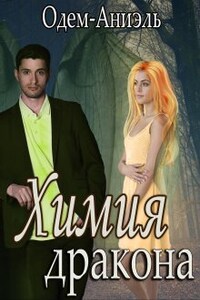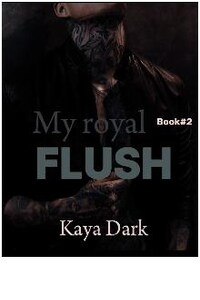Глава 1
Годы идут,
Нет новостей,
Дома не ждут
Этих людей.
Downcast, Дом забвения©
Том сидел на неудобной кровати, обняв
колени и упёршись в них подбородком. Смотрел в угол, где
серовато-голубая краска стен выглядела темнее и старее, чем везде.
Через голое, вечно запертое окно лился бесцветный свет: не солнце,
не мрак за ним был, а грязновато-молочное, словно вываренное небо.
И на улице было промозгло, несмотря на последние дни лета на
календаре. Август в этом году сошёл с ума, устраивал дикие
температурные скачки, бросаясь то в жар плюс сорока, то в дождливый
холод. Лето в этом году прошло мимо него. Как и весна. Как и
большая часть зимы.
Он снова толком не видел снега.
Уже восемь месяцев Том находился в
больнице, один из которых провёл в реанимации – шутка ли, пробитое
сердце и упорное нежелание жить. Он снова и снова кидался на стены
и прочь из себя, срывался с нервов. Он не хотел жить, он не мог
жить. Но заставляли: вязали к кровати, обкалывали убойными дозами
транквилизаторов, от которых иной раз по несколько дней лежал
ничего не мыслящим телом. В психиатрических больницах никто не
будет шутить и играть в игры, тем более с неудавшимся самоубийцей.
С теми, у кого что-то сломалось в голове, в мягких стенах разговор
короткий.
Примерно через два месяца после того,
как сорвался, Тома начало отпускать: психика не могла бушевать
вечно в неправильном и парадоксальном с точки зрения самой природы
режиме самоуничтожения. Он смирился.
Он начал привыкать к тому, что видит
вокруг себя каждый новый день, мало чем отличающийся от предыдущих,
и принимать это как неизбежность: унылый цвет стен, людей в белых
халатах, горькие на вкус таблетки.
Пришлось привыкнуть. Потому что в его
слабом теле таилось на редкость сильное желание жить. Жить вопреки.
Жить просто ради того, чтобы жить: продолжать дышать и видеть
солнце. Даже когда он сам этого не хотел.
Его сердце не смогли остановить ни
нестерпимая боль, ни ужас, ни истощение, ни даже сталь. Ему всё
было нипочём, оно не желало прекращать свой бег. Тело страдало,
психика ломалась и переламывалась пополам, а оно всё бежало и
бежало вперёд, в, возможно, светлое будущее. [Только Том в него уже
не верил].
Он был неудачной пародией на
Джульетту из всем известной трагедии. Смерть его не хотела,
воротила нос, твердя под него: «Ещё не время». Но и нормальная
жизнь не находила для него в себе места.
Его местом был искусственный мир
внутри больничных стен, где нет опасности, правила чётко прописаны
на бумаге и никто от тебя ничего не ждёт. Эти стены надёжно
защищали от мира настоящего, огромного почти до безграничности, в
котором Том не умел жить, к которому отчаянно стремился совсем
недавно [по меркам собственной памяти], но тот с тем же отчаянием
отшвыривал его от себя, как паршивого котёнка.
Ему не было места нигде, кроме
больницы. Потому что этот мир стерильности и безнадёжности
принимает всех, повинуясь клятве Гиппократа, будь ты хоть бедный,
хоть богатый, хоть кривой, хоть до предела не такой. В этом мире
можно ни о чём не беспокоиться, кроме того, что жизнь проходит
мимо, пока ты подставляешь вены под капельницы.
Том взглянул на сгиб локтя, где едва
сошли чёрные синяки, несмотря на то, что делать инъекции ему
перестали полтора месяца назад, так его искололи. Что полтора
месяца, что восемь – прошли, как один бесконечный день без заката и
рассвета.
Том больше не рвался на волю, не
спрашивал, когда его выпишут и выпишут ли, и никто другой эту тему
тоже не поднимал. Ему было по большей части всё равно, потому что
огромный манящий мир он попробовал, да не прижился в нём. И теперь,
в отличие от прошлого раза, прекрасно понимал, что выходить отсюда
ему некуда и не к кому. И не так уж уже хотелось, чтобы кто-то
ждал.