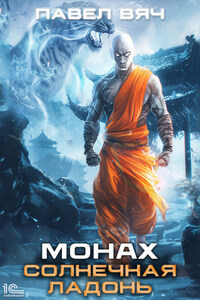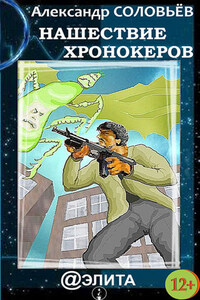«Эх, хорошо в стране Советской жить!»
Громкие звуки музыки эхом отражались от пустых стен большой комнаты, выкрашенных в бело-голубой, больничный цвет. Стены были плохо оштукатурены, местами краска облупилась, обнажая серый бетон. Пол комнаты был устлан дешевым линолеумом, пожелтевшим от времени, вздувшимся пузырями в некоторых местах, а у стены красовалось огромное прожженное пятно.
В комнате по всей ее длине в три ряда стояли кровати с панцирными сетками, на которые бросили тощие комковатые матрасы, устланные когда-то белыми простынями, а теперь уже посеревшими от бесконечных стирок.
На кроватях спали дети. Кто-то ворочался во сне и что-то бормотал, кто-то лежал, положив под щеки сложенные вместе ладони, кто разметался по всей постели, сбросив на пол колючее одеяло в клеточку. Комнату наполняло сопение и редкий скрип металлических сеток. Дети спали, полностью игнорируя ревущий динамик, из которого вырывались громкие звуки бравурного советского марша.
В дальнем углу комнаты на кровати сидела девочка лет десяти. Она единственная в комнате не спала. Девочка сидела на кровати в форме: черных шортах и белой футболке, две тугие длинные косички спадали ей на спину – девочка была похожа на изображение с агитационного плаката, только вот на таких плакатах дети всегда изображались с улыбками на лицах, вдохновленные мыслями о радостях коммунистического строя.
Девочка же была встревожена, она словно напряженно к чему-то прислушивалась, словно ждала чего-то страшного.
Огромная люстра под потолком вдруг качнулась, издав мелодичный хрустальный звон. Единственный предмет уюта в этой комнате, который выглядел очень дорого и очень красиво. Огромная конструкция из тысячи сверкающих стекляшек в этой скудно обставленной спальне выглядела чужеродно. Воспитанники детского дома часто спорили, откуда же она здесь взялась? Вечерами, когда уже гасили свет, они строили разнообразные теории и рассказывали истории появления этой люстры, а затем засыпали, пересчитывая хрустальные элементы светильника, которые отбрасывали слабые блики лунного света.
Маша проснулась от странного ощущения в груди – словно что-то невидимое тянуло ее изнутри, пытаясь вырвать наружу. В полутьме спальни детского дома №47 слышалось только мерное дыхание спящих детей. Двенадцать коек – двенадцать судеб, заброшенных в этот серый мир казенных стен и больничного запаха хлорки.
Поэтому сейчас девочка прислушивалась к тишине. Что-то было не так. Воздух дрожал, как летом над раскаленным асфальтом, хотя за окнами лежал февральский снег. Волосы на затылке у Маши встали дыбом.
Сначала это был едва заметный гул, похожий на работу далекого двигателя. Потом – легкая вибрация, заставившая дребезжать стекла в оконных рамах. Металлические кровати начали скрипеть в такт непонятному ритму.
– Что происходит? – сонно пробормотала Лена с соседней койки.
Маша не успела ответить. Комната вздрогнула, как живое существо, пол под ногами заходил ходуном. Дети вскакивали со своих мест, кто-то плакал, кто-то кричал. Штукатурка сыпалась с потолка белыми хлопьями.
Дверь распахнулась, и в проеме появился Петр Васильевич, их воспитатель. Обычно спокойный и невозмутимый, сейчас он выглядел растерянным.
– Дети, быстро! Все на выход! – крикнул он, пытаясь перекричать нарастающий гул. – Не паникуйте, это просто землетрясение!
Но Маша знала – это вовсе не землетрясение. То, что происходило в центре комнаты, не имело отношения к природным катаклизмам. Воздух там сгущался, закручиваясь в невидимую воронку. Пространство начало буквально рваться по швам.
Сначала в воздухе возникла тонкая черная линия, словно кто-то провел ножом по холсту реальности. Линия расширялась, трещала, источая холодный свет, который не освещал, а поглощал окружающую тьму. Из разрыва повеяло чем-то потусторонним – запахом металла и озона, звуками далекого мира.