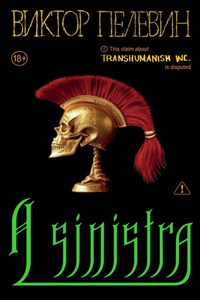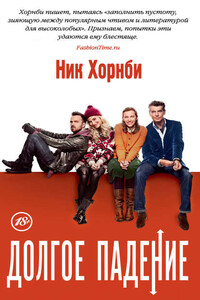Воздух был густым и сладким, приторным, как прокисший мёд. В нём висели три запаха, навсегда врезавшиеся в память: масляная краска, свежесрезанные розы и медь. Я не знала тогда, что запах меди – это запах крови. А сладковатая тяжесть, щекотавшая нёбо – это запах смерти.
Отцу нравилось создавать атмосферу. Дорогие дубленые ботинки, которые он так тщательно начищал каждое утро. Граммофон, игравший Шопена. Ноктюрн. И розы для мамы на их годовщину. Он любил, когда всё было идеально. Последняя картина в его жизни – идиллия, в которую он вписал и себя.
Я сидела под большим дубовым столом в его кабинете, прижав колени к груди, закусив губу до крови. Я шептала себе, что папа играет в прятки, пытаясь загнать обратно горький, металлический привкус страха. Откуда-то из-под стола потянуло странным, электрическим запахом, пахнущим, как перед самой сильной грозой. Дверь скрипнула. Не так, как обычно – жалобно и просяще, а резко, властно, чужим голосом. Ботинки отца перестали раскачиваться в такт музыке. Шопен лился теперь насмешливо, издевательски, словно аккомпанируя тому, что началось. Я увидела другие ботинки – тяжелые, грязные, чужие. Они подошли к папиным. Раздался тихий, удивленный стон, потом глухой удар. Тело отца рухнуло на персидский ковер с мягким, ужасающим звуком.
Из-под стола мне был виден только пол и ноги. Ноги незнакомца и неподвижные ноги отца. Незнакомец двигался с хирургической, пугающей точностью. Раздавался звук режущегося полотна – это была не ткань. Хруст. Тихие булькающие звуки. Пахло теперь по-другому. Медь смешалась с чем-то химическим, резким. Формалином? Я не знала этого слова, но запомнила запах навсегда. Запах науки, препарирующей жизнь.
Музыка закончилась. Во внезапной тишине звуки стали громче, ужаснее. Шуршание инструментов по мраморному полу. Мягкое падение чего-то тяжелого и влажного. Тихие, удовлетворенные вздохи незнакомца.
– Искусство требует жертв, мой дорогой друг, – произнес голос. Он был низким, бархатным, почти ласковым.
– Ты станешь моим шедевром. Вечным учебником анатомии.
Я зажмурилась, но не могла не смотреть. Сквозь щели между пальцами я видела, как ботинки незнакомца отходят к стене. Он что-то вешал. Что-то тяжелое, что мягко стукалось о стену. Потом он приблизился к столу. Его ботинки остановились в сантиметрах от меня. Я перестала дышать. Сердце колотилось так громко, что мне казалось – он обязательно услышит. Он наклонился. Я увидела его лицо. Не полностью – только нижнюю часть: аккуратно подстриженную седую бородку, тонкие губы, сложенные в улыбку. И глаза… я увидела их отражение в полированной поверхности папиных ботинок. Светлые, почти бесцветные, с расширенными зрачками. Глаза человека, видящего не меня, а свой следующий шедевр.
– Маленькая мышка, – прошептал он. Его дыхание пахло мятой и чем-то горьким. – Не бойся. Ты тоже часть искусства.
Его рука в черной перчатке протянулась под стол. Длинные пальцы с тонкими, почти изящными движениями. Они остановились в сантиметре от моего лица. Я чувствовала исходящее от них холодное тепло. Он провел пальцем по воздуху, словно рисуя контур моего лица. Потом мягко коснулся моей щеки. Перчатка была липкой. Теплой. Пахла медью.
– Ты будешь помнить этот день, – сказал он тихо, почти нежно. – Это твое наследие. Твое проклятие и твой дар.
Он отступил. Его ботинки замерли на мгновение, потом развернулись и зашагали к выходу. Дверь закрылась с тихим щелчком.
Я не знаю, сколько времени прошло. Музыка давно закончилась. В комнате пахло смертью и искусством. Я выползла из-под стола. Отец… Он был прикреплен к стене, как картина. Его тело… Нет, это было уже не тело. Это был анатомический атлас. Аккуратно рассеченный, с отогнутыми лоскутами кожи, с выставленными напоказ мышцами и костями. Кровь стекала по стене ручьями, образуя причудливые узоры на персидском ковре.