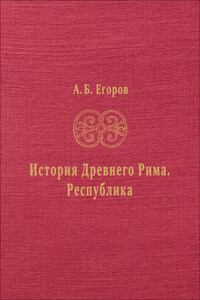Воздух в саду моей матери в тот день был густым и сладким, как прокисший мед, и таким тяжелым, что его казалось можно было резать ножом. Каждый вдох был насыщенным, почти осязаемым. Я медленно шла по гравийной тропинке, утопая в шепоте опавших листьев. Они лежали ровным, шуршащим ковром, сотканным из багрянца, старого золота и выцветшей меди. Под ногами они хрустели с сухим, стеклянным позвякиванием, словно крошечные амулеты, рассыпанные чьей-то невидимой рукой.
Сад был её гордостью, её вторым отражением – столь же продуманным, безошибочным, будто ряд идеально отполированных зеркал. Ни один лепесток, ни одна травинка не смели нарушить заведенный порядок. Розы, подстриженные в идеальные сферы, даже увядая, осыпали лепестки аккуратными кругами. Строгие линии самшитовых изгородей обрамляли клумбы, где поздноцветущие астры и хризантемы выстраивались в безупречные цветовые переходы – от сиреневого к лиловому, от бледно-розового к густо-карминному. В каждом стебле, в каждом изгибе ветви чувствовалась её магия – упорядоченная, безупречная и бездушная. Тут не было места случайности или хаосу – всё, даже запахи, смешанные в точных пропорциях, были частью её тщательного плана.
Я сделала глубокий вдох, вбирая сложный букет: сладковатую пудровость умирающих роз, пряную горечь полыни в прикорневых посадках, запах влажной земли после утреннего полива, грибной, сырой дух гниющих пней у старой каменной стены и пронзительную, холодную свежесть увядания. Этот воздух был честным. Он не лгал о конце циклов и тлении плоти, в отличие от нарядных гобеленов в нашей усадьбе, застывших в вечной весне, и будуарных, отрепетированных улыбок моей матери.
Завтра должен был приехать Витор горт Адарский. Мой жених. Чужой человек с холодными, как озерная гладь в ноябре, глазами и безупречной, выверенной до десятого колена родословной, которого мне выбрали родители для «укрепления союза домов».
Мои руки, тяжелые и чужие, безвольно повисли вдоль тела, когда я подошла к Зеркальному клену – тому самому, что мать когда-то посадила в честь моего рождения. Его листва пламенела в низком осеннем солнце, словно расплавленная медь и кованая бронза, и источала тонкий, согревающий аромат корицы, гвоздики и слегка подгорелого сахара. Солнечный свет, пробиваясь сквозь кружево листьев, отбрасывал на землю дрожащие блики, похожие на рассыпанные монеты. Я прикоснулась ладонью к шершавой, покрытой глубокими трещинами коре, надеясь уловить в его древней силе хоть крупицу утешения, хоть искру живого тепла. Но под пальцами лишь чувствовалась твердая, неподвижная поверхность, а внутри я услышала только спокойную, сонную вибрацию его магии – ровный, монотонный гул, что будто застыл и не менялся веками, как прописная истина в учебнике. Этот сад, при всей своей видимой естественности, был частью системы. Его красота и порядок – результат ежедневной, тщательной работы, навязанной моей матерью, как привычный, неоспоримый ритуал. Даже в своём кажущемся буйстве красок и ароматов он оставался частью строгого плана – точным зеркалом моего привычного, распланированного по минутам мира.
Как и я.
Я закрыла глаза, отгораживаясь от этого совершенства, пытаясь представить не Витора, а кого-то другого. Чье-то теплое, живое прикосновение, неотрепетированный, искренний смех, который рождается не в горле, а где-то в глубине живота. Но воображение, закованное в прочную броню приличий и долга, отказывалось рисовать четкие картины, скользя по знакомым, безопасным шаблонам. Передо мной лишь возникал, словно из тумана, образ завтрашнего дня: я в платье из тяжелого лунного шелка, отливающего синевой, с жемчужными нитями, вплетенными в сложную прическу, и с застывшей, вежливой улыбкой на губах, которую я тренировала перед зеркалом.