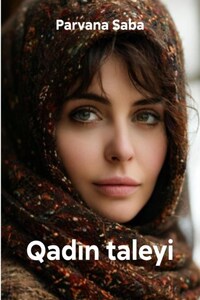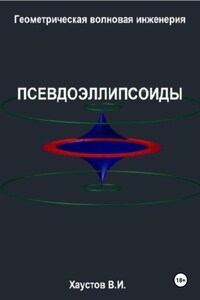1965 г. Лондон, Англия.
Лондонское лето всегда отдавалось привкусом нежности и легкости, сопровождаемое горьким послевкусием, когда осенние дожди, не прекращаясь, беспощадно топили улицы.
В одном из Лондонских парков, в уходящие летние дни, которые если и невозможно было удержать, то по крайней мере можно было запомнить навсегда, ласково пели птицы. Раннее и теплое утро, когда не все еще пробудились ото сна, пока еще не забиты парки, на красной деревянной скамейке сидел высокий молодой человек, с удивительно кудрявыми каштановыми волосами, с лицом усыпанным веснушками и с круглыми очками, что помогали этим небесно голубым глазам видеть мир четче.
Это был Кристиан Рой Лачовски, он же Ронни (Рональд) Малколм Готтфирд, человек с грустным прошлым и практически таким же грустным настоящим, но с маленькой надеждой на светлое будущее. Вся горечь состояла в том, что детство его прошло словно деленное на две жизни и в этом была заслуга его матери.
На дворе стоял 1965 год, двадцатилетний Кристиан греясь лучами солнца, держа в руках записную книжку, намеревался найти все ответы на свои вопросы именно в ней. Он только вышел из психоневрологического диспансера, откуда он вот-вот отправится в Лондон к Милице.
Его мать вела этот дневник с того времени, как покинула свой родной город и уехала жить в Англию, где поселилась у одного непризнанного пианиста.
–
Признаться, не помню, чтобы Элли вела дневник, – говорил Клемент Данвуди, старый друг семьи.
–
И я не припомню, чтобы мама держала ручку в руках, казалось, ее пальцы касались только клавиш пианино, – улыбнулся он.
–
Она всегда говорила, что музыка помогает ей жить, пробуждает в ней все самое лучшее.
–
Почему она тогда…? – он запнулся и проскользнуло в его взгляде горечь всей необдуманной мысли, что он так умело прятал внутри.
–
Она… – хотел было ответить Клемент, как Кристиан перебил его словами:
–
Милица сегодня приедет, даже не верится.
Элли, мать Кристиана, была человеком искусства, впрочем, как и Лачовски младший. Она играла на скрипке и на фортепиано. Могла не замечать крик своего ребенка, который только пробудился ото сна и без перерыва водить пальцами по клавишам инструмента, всецело отдаваясь музыке.
Не значит, что она не желала или куда хуже не любила Кристиана, отнюдь, она в нем души не чаяла. Элли увлекалась историей и преподавала ее после рождения Кристиана в Осло, делая акцент на Англию. В душе она считала себя англичанкой, но бла ею лишь наполовину, как и ее супруг. Имя Элли не настоящее, она урожденная Ингрид, но сменила после переезда в Англию.
Поселившись в Манчестере, она стала брать уроки музыки у местного композитора Эдвина Готтфирда, лет шестидесяти трех. Худощавая, маленького роста норвежка запала в душу композитора и он был рад учить ее за скромное «спасибо», а точнее за помощь по уходу за домом и приготовлении еды. Мужчина твердил ей, что музыка не требует слов. Со временем, конечно, она выучилась языку, того было не избежать. Их короткие разговоры превратились в длинные, как только она ловко овладела языком. Ей думалось о том, как велик этот мир и велики души, когда она их понимает. Она проводила за пианино сутки напролет, музыка ее охватила с ног до головы. Эдвин удивлялся двум вещам: ее рвению и усидчивости. Он говорил: «из нее выйдет хорошая пианистка». Но этого не случилось.
Элли проживала на окраине Манчестера и дни ее проходили свободно. Поселилась она у Эдвина, он выделил ей комнату с небольшой кованой кроватью, белым потертым шкафчиком и пожертвовал свое старое пианино, что некогда красовалось в гостиной. Он был добрым и отзывчивым человеком, но с грустной историей. Жена его пропала без вести еще пятнадцать лет назад, двое их детей живут в Ирландии. Он не был одинок, у него была музыка, она помогала ему жить и выстраивать тот самый баланс между отчаянием и умиротворением. Ему было в радость, что в доме поселилась еще одна душа в виде юной Элли. Он относился к ней как к дочери, и казалось, начинал в это верить сам. Спустя два года Элли начала называть Эдвина отцом.