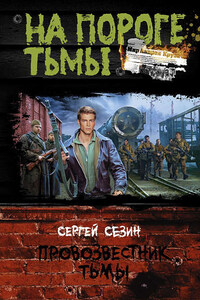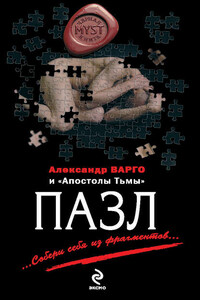«Еще до рассвета их поднял пронзительный, как лезвие, крик ключника. Спали тут же, в длинном, пропахшем потом и землей сарае на краю поместья, на подстилках из прелой, остро пахнущей горечью соломы. Спины затекшие, кости ныли от вчерашнего, выворачивая суставы тупой, знакомой болью. Но некогда было размышлять о боли, мыслях не оставалось – только смутный, животный ужас перед предстоящим днем. Сегодня – пик страды, и день этот обещал быть длиною в вечность.
Солнце, только-только выползшее из-за холмов, уже не ласкало, а жгло немилостиво, словно раздувая гигантские мехи ада. Небо раскалилось до белесого, выцветшего от зноя полотна, на котором больно было смотреть. Над бескрайним золотым морем пшеницы стоял густой, сладковатый и дурманящий гул – жужжание тысяч насекомых, спешащих поживиться перед гибелью. Этот гул входил в самое нутро, смешиваясь с гулом в собственной голове.
Мартин, плотно сжав в мозолистой, словно из дуба вырубленной руке, рукоять косы, чувствовал, как под тонкой, словно пергамент, кожей набухают кровью старые волдыри, обещая к вечеру превратиться в кровавые мешки. Первый взмах – и густой, сочный шелест наполнял пространство, на миг заглушая звон в ушах. Стебли падали покорно, устилая землю ровным слоем, и в этом шелесте слышалось что-то горькое – словно это не пшеницу жали, а подрезали крылья самому дню. За ним, отставая на взмах, двигались другие мужики. Не было слышно ни песен, что пели деды, ни разговоров – только тяжелое, свистящее, как у загнанной лошади, дыхание и сухой, безжалостный шепот срезаемой пшеницы, отсчитывающий секунды их жизни.
Жара наливалась свинцом, заливая легкие и пригибая к земле. Пот жгучими струями заливал глаза, соляными дорогами струился по вискам, оставляя белые, как следы слез, дорожки на запыленной, потрескавшейся коже. Рубаха, промокшая насквозь, прилипла к спине мертвым, тяжелым саваном. Каждый раз, разгибаясь с хрустом в позвоночнике, чтобы смахнуть налипшую солому с лезвия косы, Мартин чувствовал, как мир плывет в багровых кругах, и видел вдали – неподвижную, как предвестник беды, фигуру управляющего на вороном коне. Неподвижный, как каменный идол, он наблюдал за ними, и его холодный, отстраненный взгляд был острее и безжалостнее любой косы, пронизывая насквозь, вымеряя каждое движение на предмет лени.
Позади, согнувшись в три погибели, словно сломанные машины, двигались женщины. Их руки в грубых, стертых до дыр перчатках ловко, но с какой-то отчаянной медлительностью, сгребали скошенное, связывали в тугие, тяжелые снопы и ставили их в «домики» для просушки. В их глазах читалась та же свинцовая усталость, что и в мужских, но приправленная еще и вечной тревогой за детей, сновавших между взрослых с кувшинами теплой, пахнущей деревянной смолой воды – единственной, обманчивой благодатью в этом аду, лишь на миг утоляющей огонь в горле.
К полудню казалось, что сам воздух загорелся, колыхаясь маревым зноем. Солнце било в макушку, в плечи, выжигая последние мысли, стирая память, оставляя лишь инстинкт. Оставалось только одно: взмах, вонь пота и усталости, шаг, впивающийся в землю, взмах, шаг. Руки и спина жили своей отдельной, огненной жизнью, превратившись в один сплошной мычащий от боли нерв. Ладони были стерты в кровь, несмотря на мозоли, и эта свежая боль наслаивалась на старую, глухую.
А поле не кончалось. Оно было бесконечным, как божья кара, раскинувшейся до самого края света. Золотое, тучное, прекрасное и ненавистное. Оно кормило их, но не ими засеянное, не их руками взлелеянное с молитвой. Они были лишь слугами, рабами, вложившими в него всю свою силу, молодость, здоровье, чтобы унести в итоге лишь малую, унизительную толику, едва достаточную, чтобы не умереть с голоду до следующего лета, до новой каторги.