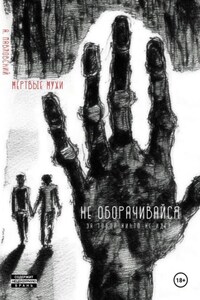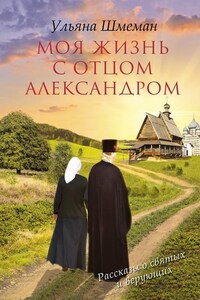Цикличность.
Всё повторится вновь.
Глава 1: Тень на маршруте
Октябрь, ледяными губами, целовал город в обветшалые щёки: кирпичные фасады домов поблёкли, вывески магазинов вымылись дождями, а мостовые устилал ковёр из жёлто-красной листвы, следы увядающей осени. Воздух, пропитанный запахом мокрого камня и дымящихся крыш, застывал в лёгких колючей изморозью. На углу Садовой и Третьей примостился заброшенный фонтан – чаша, заполненная мокрыми газетами и пустыми бутылками, а над ней, на постаменте, застыла бронзовая девушка с разбитым кувшином, навечно замершая в немом крике. Вода давно не лилась из её рук, но по утрам, когда туман обволакивал площадь, казалось, будто она плачет.
Он стоял в тени киоска «Союзпечати», давно закрытого ржавым замком. Пальто цвета мокрого асфальта сливалось с граффити на стене – чёрный силуэт, раскинувший руки в немом призыве. В кармане жгло: засохший стебель герани, обёрнутый в страницу из школьной тетради. «12 марта…» – прошелестели губы, когда стрелка часов дрогнула, замерла на 18:17.
На остановке «Парковая» ни души – лишь ветер гонял по асфальту конфетный фантик, застрявший в трещине ещё летом. Автобус №17 по маршруту «Кладбище – Площадь Свободы», прозванный местными «Призраком», вынырнул из-за поворота, фарами вырезая в сумерках жёлтые глаза. Двери захлопали, как костяные челюсти. Она вышла третьей – замшевые ботинки, плащ цвета ржавчины, шпилька с чёрной жемчужиной в волосах. Новая шпилька. Он запомнил каждую её вещь: коричневые перчатки с протертыми пальцами, бардовый шарф, который она завязывала особым узлом, даже стёртый каблук на левом ботинке. Фотоаппарат «Зенит-Е» с треснувшим объективом вздрогнул у его глаза. Щёлк. Вспышка не сработала – никогда не срабатывала.
– Тридцатое октября… – шёпот осел инеем на воротнике.
Она двинулась к Центральному рынку, где осень разложила свой базар. Торговцы, закутанные в плащи, похожие на крылья летучих мышей, выкрикивали цены, словно заклинания:
– Груши! Сладкие, ароматные!
– Яблоки антоновка! Последний ящик перед зимней спячкой!
Воздух гудел от запахов: жареные каштаны, корица, яблоки и подгнивающие тыквы. У лотка с сухофруктами она замедлила шаг. Продавец, мужик с лицом, изрезанным морщинами глубже, чем кора старых дубов, протянул ей гранат с трещиной:
– Спелый, как девичье сердце. – хрипло засмеялся тот, и она улыбнулась, не понимая шутки.
Она взяла плод, не торгуясь. Мужчина легким движением разрезал фрукт пополам. Он наблюдал, как её пальцы сжали кровавый шар, как сок брызнул на перчатки. Почти вишнёвые пятна. Не как у Леры. Лера резала аккуратно, будто вскрывала часовой механизм.
Подняв смятый платочек, что она выронила, он сунул его в карман. В углу – отпечаток помады. Вишнёвая. Не алая. Совсем не алая.
Рынок сменился узкой улочкой, что вела к набережной, где дома стояли плечом к плечу, словно сплетничали друг с другом через окна. На втором этаже дома с вывеской «Часы и Стекло» мерцал неоновый циферблат. Хозяин лавки, старик в очках, делающих глаза похожими на рыбьи пузыри, вывешивал табличку «Закрыто». Год назад он чинил ему часы, бормоча:
– Пружина лопнула. Судьба, барин, она всегда рвётся в самый неподходящий момент.
Старик замер, уставившись на девушку. Его пальцы сжали медный ключ, будто пытаясь вскрыть дверь в её прошлое. Затем ставни захлопнулись с таким грохотом, что голуби сорвались с карниза, взметнув в небо облако перьев.
Она свернула к набережной, где ветер гулял свободно, срывая с фонарей рекламные листовки. Река, тёмная и маслянистая, несла в своих водах отражения заводских труб, дымивших на горизонте. Здесь, у чугунного моста с облупившимися львами она остановилась. Достала гранат, упёрлась коленом в парапет, покрытый слоем мха и похабных надписей. Зёрна падали в воду, и река, заглатывала их, не оставляя кругов. Он притаился за киоском «Мороженое», давно превратившимся в пристанище для пустых бутылок. Щёлк. В видоискателе её профиль растворялся в тумане, руки, окрашенные соком, казались окровавленными.