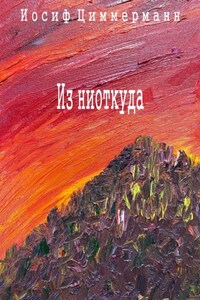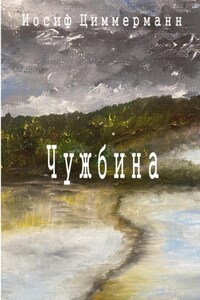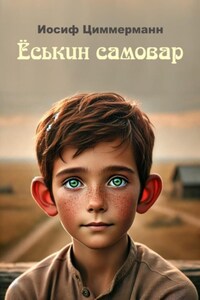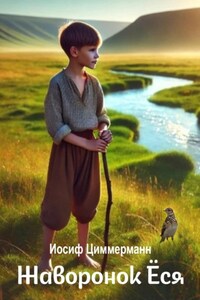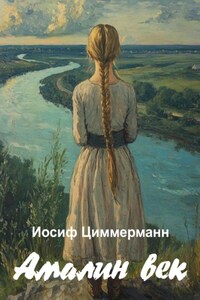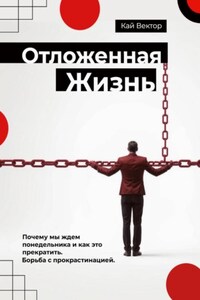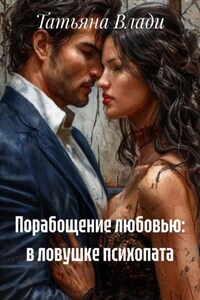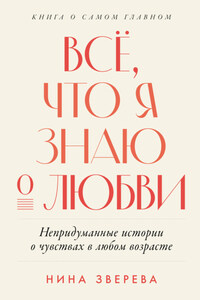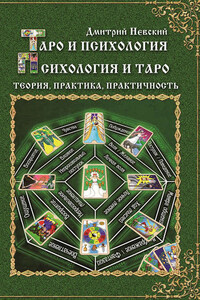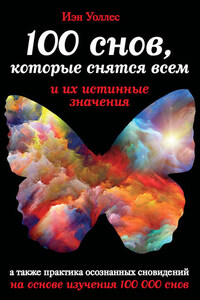Автор очерка «Мої кохані» – человек, чьи строки выросли из личной памяти и живых человеческих судеб. Большинство героев его произведений – не вымышленные персонажи, а соседи, друзья детства и родственники. Он знает их истории из первых уст, помнит их лица и голоса.
По происхождению – наполовину немец-католик, наполовину русский-православный. Его крестная мать была украинка – как символ единства культур, переплетенных в его прозе.
Потому каждое слово в его рассказах – не просто воспоминание, а тихая исповедь поколений, чья жизнь стала частью большой истории.
Пути людские не знают прямой линии. По большей части они извилисты. Каждый идет своей дорогой, но неизбежно с кем-то пересекается – и это называется судьбой.
С берегов Дуная, в ветреные казахские равнины занесет потомка Йожефа Сёльёши – молодого мадьяра, солдата венгерской армии. Он думал, что погибнет под Лембергом, но лишь полвека спустя найдет свой упокой на кладбище у маленькой станции Аккемир…
Вторая дорога, по которой будут брести, запряженные в тележки, волы, приведет в те же края и Соню Каркишко. Она родилась в окраинном поселении Зеленьки, что вскоре сольется и станет частью матери городов русских – холмистого, златоглавого Киева…
От малоросского слова «кохане» – «любимая» – происходила их фамилия. Когда-то она звучала как Коханый, потом стала Коханов, пока, наконец, не сократилась до простого, но звучного – Кохан. Семья Феклы и Марка Кохан переселилась из Полтавской губернии в Россию, а уже оттуда – в Казахстан. Там, на берегу реки Илек, среди плодородных земель Отрубного, разделенных посадками вербы на квадраты, они стали батрачить на зажиточных кулаков…
Все эти семьи, все эти фамилии – как стежки и узоры на единой, яркой вышиванке жизни. Каждая нитка имеет свой цвет, свой рисунок, свою боль и радость. Рассеянные по степям и окраинам, гонимые войной, нуждой и бедами, идущие разными дорогами, они сойдутся на берегу казахстанской реки Илек – где их судьбы сплетутся в общий венец одной истории.
Лето шло на убыль. Под Бродами, восточнее Лемберга, на выжженных галицийских полях, у самой границы с Волынью, пахло гарью и чабрецом. Этот запах – горький и теплый – успел ощутить венгерский солдат, прежде чем осколок артиллерийского снаряда пронзил его плечо. Он упал лицом в горячую землю, вдыхая ее, как будто она могла вернуть ему силы. Попробовал подняться, но тело не слушалось.
Двадцатичетырехлетний хонвед, рядовой мадьярской пехоты, лежал на поле сражения – там, где шло крупнейшее наступление русской армии в Первой мировой, то самое, что потом назовут Брусиловским прорывом.
Кровь текла по руке – горячая, липкая. Солдат уже не слышал стрельбы – только жужжание кровожадных мух.
– Hát eljött a véged… – выдохнул он обреченное: «Ну вот и твой конец».
Солнце клонилось к западу, и вместе с ним подкошенной оказалась его жизнь. Вдруг стало даже легко, будто все самое страшное уже случилось. Тишина накрыла поле, и свет померк…
Очнулся он под звон – будто кто-то далеко бил в стеклянный колокол. Сначала подумал, что это смерть, но вместо мрака увидел белый потолок и солнечный луч. За окном шелестели темной листвой каштаны, по краям уже тронутые желтизной. На ветвях медленно раскачивались колючие шары плодов.
Сестры милосердия говорили по-русски – мягко, но чуждо. Раненый солдат глубоко вдохнул – впервые без боли. И в тот момент понял: закончилась не жизнь, а только война. Об этом говорила тишина окраины уездного поселения. Госпиталь Красного Креста находился в Белой Церкви – старинном городе к югу от Киева.
Видимо, заметили, что он пришел в сознание. К кровати подошла медсестра – вся в белом, легкая, как тень, – и заботливо поправила на нем одеяло. Пациент невольно встретился с ее серыми глазами – спокойными и теплыми.