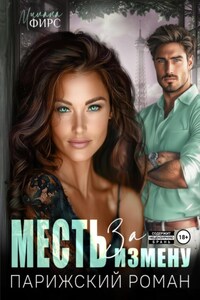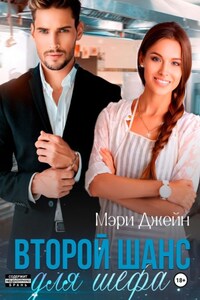Кузница Ратибора была сердцем деревни, и билось это сердце в ритме его молота. Грохот металла о металл был первой песней, которую слышали жители с рассветом, и последней, что убаюкивала их с наступлением сумерек. Внутри, в полумраке, полном летучих искр и тяжелого запаха угля и пота, царил Ратибор. Он был не просто человеком; он был частью этого места, его живым духом.
Могучие плечи, покрытые блестящей от жара испариной и сажей, вздымались и опускались с размеренной силой зверя. Каждая мышца на его спине и руках перекатывалась под кожей, живя своей собственной, напряженной жизнью. Он не замечал ничего, кроме раскаленного добела куска железа, покорно лежащего на наковальне. Для него это было не просто работой. Это был обряд. Вся ярость, весь невыпущенный пар, все желания, что кипели в его молодой крови, он вкладывал в каждый удар. Молот был продолжением его руки, а наковальня – алтарем, на котором он приносил в жертву свою неукротимую силу.
Когда он на мгновение остановился, чтобы перехватить рукоять, в дверном проеме нарисовалась коренастая фигура. Старый дружинник Свят, с лицом, изрезанным шрамами и хитро прищуренными глазами, прислонился к косяку, скрестив руки на груди. Он молчал, наблюдая, как Ратибор, схватив клещами клинок, вновь окунает его в ревущее пламя горна.
«Велеса мне в свидетели, ты не просто железо гнешь, ты ему душу вбиваешь», – хрипло произнес Свят, когда Ратибор повернулся к нему. Капли пота стекали по груди кузнеца, теряясь в густых темных волосах.
Ратибор отер лоб тыльной стороной предплечья, оставив на коже черный след. Его дыхание было тяжелым, как удары молота.
«Душу вкладывает тот, кто этим в бою машет», – бросил он, не отрывая взгляда от горна. «Мое дело – дать ему тело. Крепкое, острое, без изъяна».
Свят усмехнулся, сделал шаг внутрь. Жар тут же обдал его, заставив поморщиться. «Именно за этим я и пришел. За телом. За мечом, что не подведет, когда печенег захочет мои кишки на свой аркан намотать. Но я смотрю, Ратибор, ты не только железо калишь. Ты и себя калишь, да так, что скоро звенеть будешь».
Ратибор выхватил клинок. Металл светился яростным, почти белым светом. Новый град ударов обрушился на наковальню – звонких, точных, яростных.
«Я делаю свою работу, Свят. Больше мне ничего не надо».
«Не ври хоть старому вояке», – не унимался дружинник, повышая голос, чтобы перекричать грохот. «Я вижу, как они вокруг твоей кузни вьются. Пятеро. Одна краше другой. Забава – огонь-девка, Милада – тихий омут, Весняна языком что бритвой полоснет. Горислава гордая, как княжна, а Любава смотрит так, будто душу твою выпить хочет. Любой бы на твоем месте уже выбрал одну для ночи, другую для дома, а остальных бы по лесам да по сеновалам…»
Ратибор с силой опустил молот. Удар был таким, что искры веером взметнулись до самой крыши. Он повернул к Святу свое суровое, молодое лицо. Глаза горели не слабее, чем угли в горне.
«Тебе меч нужен или бабские сплетни слушать? Если первое – жди. Если второе – иди в баню, там бабки тебе и не такого расскажут».
Свят не обиделся. Он подошел ближе, положил тяжелую ладонь на плечо кузнеца. Мышцы под его пальцами были твердыми, как камень.
«Дурак ты, Ратибор. Сила, она как река. Если ей русло не дать, она все вокруг снесет. У тебя пар некуда спускать, кроме как в этот металл. Ты себя в эту наковальню забьешь. Мужику баба нужна. Чтобы ночью жар свой отдать, а утром со спокойной головой к работе встать. А ты… ты как медведь-шатун весной, только ярость свою в железо вымещаешь».
Ратибор сбросил его руку и с оглушительным шипением вонзил раскаленный клинок в бочку с водой. Густой пар окутал их, скрыв на мгновение фигуры друг от друга. Когда он рассеялся, кузнец уже осматривал потемневший, закаленный металл.