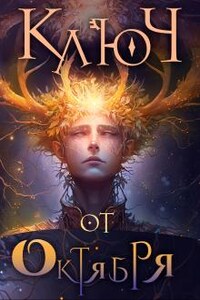Сухая отцовская рука пробудила Дашу от сна, ради которого
незачем было закрывать глаза: картины и так бежали перед глазами
одна за другой, будто кто-то непрерывно менял пленку. Она подняла
на него голову, потирая собственные ладони, замёрзшие от гуляющего
по дому сквозняка.
— Можешь передохнуть. Я с ней посижу.
Взгляд упал на гроб, возвышающийся громадной тенью, будучи почти
неразличимым в сумраке комнаты. Потом почти сразу мячиком отскочил
на стену, где, сколько Даша себя помнила, всегда тикали часы. Уже
третью ночь стрелки не двигались с места, но глаза продолжали
тянуться в ту сторону быстрее, чем приходило осознание
бесполезности этих движений.
Рука заползла в складки ветровки, потом в карман, пытаясь найти
телефон. Яркий свет от экрана ослепил обоих: и Дашу, и её отца,
сразу вскинувшего ладонь, чтобы закрыться от раздражителя. Но она
все равно успела заметить залегшие тени и складки на его еще неделю
назад молодом лице, которое сейчас больше походило на те, что Даша
видела в морге, когда в детстве однажды забежала туда, куда не
следовало. С тех пор тетя больше никогда не брала её на работу: а
Даша и сама не вызывалась.
Вот и лицо отца выражало вселенскую безмятежность, смирение,
которое, кажется, не способен познать человек при жизни. Оно
приходит потом, когда мирское остается позади. Интересно, бабушка
сейчас испытывает то же самое?
Время приближалось к шести. Пять часов и пятьдесят шесть минут –
во время смерти, которое значилось во врачебных бумажках. Три дня
назад, ровно в это время Зинаида Григорьевна Лопухина умерла.
Дашу пробрало от осознания этого. Но последняя цифра на экране
быстро сменилась следующей по старшинству и наваждение ушло.
— Да, пожалуй. Пойду на воздух, что ли.
Она спустилась с кресла, и доски под ногами обиженно скрипнули.
Пока дошла до входной двери, Даша выслушала целую тираду о том,
какая она безответственная и эгоистичная, раз бросает бабушку одну.
Скрипели половицы, свистели оконные рамы, даже с чердака кто-то так
и приговаривал бабушкиным голосом: «Всю жизнь была ни рыба ни мясо,
так и теперь такая же…».
Ни рыба ни мясо.
Даша повторила это несколько раз, стараясь распробовать
образовавшийся на языке привкус сладковатой горечи, будто раз за
разом вскрывала гнойник. И необычную белую точку, какими обсыпает
каждого первого подростка в пубертате, а глубокий фурункул,
размером с жемчужину, из которой сколько ни дави, а воспаление так
и будет нарастать, а гной образовываться снова и снова.
Их не давят. Их вырезают. С корнем.
Но Даша не могла просто взять и вырезать бабушку из своей жизни,
хоть все воспоминания о ней и сопровождались этим гноем на языке,
скатывающимся в шарики. Поэтому она научилась не помнить. Но
теперь, казалось, забыть уже не представится возможным.
На улице оказалось нисколько не холоднее, чем в доме. Двери были
раскрыты, потому даже толстые стены не спасали бабушкину избушку и
ползущего под куртку небольшого мороза, какой часто наведывается по
ночам во время второго месяца осени.
Едва завидев Дашу, Федька заскулил и завилял хвостом, подбегая
так близко, насколько хватало цепи. Из его будки виднелись две
наглые кошачьи морды, мирно сопящие под рассветную тишь: рыжая и
черная. Обычно они спали в доме вместе с хозяевами, но из-за гроба
их погнали на улицу. Даша не помнила, почему именно животным не
место с покойником в одном доме, но зато точно знала: не место.
Нельзя.
Даша присела на покосившиеся крыльцо, которое отец восемь лет
обещал сделать, и прикурила. Федька проскулил что-то и приблизился,
положив голову ей на колени. Пальцы утонули в черной длинной
шерсти, какую бабушка вечерами любила вычесывать под любимый
сериал, а потом вязать носки любимой внучке.