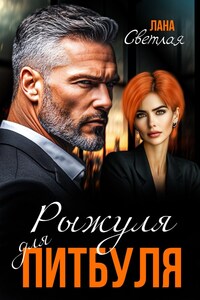В тот холодный и ветреный мартовский вечер 1767 года на нашей сцене шла пьеса Лопе де Вега «Собака на сене», где я представлял Теодоро, не без огонька живописуя его любовные страдания. Этому обстоятельству немало способствовала исполнявшая роль графини Бельфлёр мадемуазель Соланж – прима театра Бургони, редкая красавица и ещё более редкостная стерва. Я знал ее очень даже хорошо. Но, когда она своим чувственным грудным голосом произносила слова любви, я, да я, прожжённый скептик двадцати семи лет от роду, верил ей как мальчишка и уже не изображал страсть секретаря графини, а сам пылал ею. Немудрено, что нас не раз и не два награждали аплодисментами и криками «Браво». Однако же, мы не впервые играли пьесу, свою роль я знал назубок и время от времени украдкой поглядывал в зал, рассматривая зрителей, сидящих в первых рядах и в лоджиях по бокам от сцены. Их занимали дворяне знатных родов, выделявшиеся среди публики спесью и модными дорогими нарядами. Не знаю как в Париже и иных крупных городах, а в нашем захолустье, даже весьма состоятельные буржуа вели себя скромно и не мозолили глаза своим богатством аристократии. Как говорится, себе дороже. Вот почему яркое многоцветье бельэтажа на галёрке сменялось унылым тёмно-белым тоном.
Одни из присутствующих на представлении дворян считались завзятыми театралами, и я был с ними знаком. Других же не знал вовсе. И они-то, вернее только их дамы, привлекали моё внимание. Две или три из них были прехорошенькие, и дабы показаться перед ними, я принимал самые выигрышные позы, чем к середине пьесы вызвал недовольство Соланж, и в припадке злости она в сцене с пощёчинами надавала мне их в полную руку, не скупясь. Так что кровь у меня пошла самая настоящая, правда, не из носа, а нижней губы, которую она задела своим перстнем. Кое-кто из дальнозорких поклонников её таланта заметил это и разразился криками: «Браво!» «Соланж, браво!». Ничего, чертовка, подумал я, мы ещё поквитаемся. После окончания второго действия, когда занавес был опущен, я шепнул приме на ухо:
– А ты злюка, фея, не зря носятся слухи, что ты начинала прачкой, тогда, видно, и набила руку, выколачивая бельё.
Маленьким, но тяжёлым кулачком она попыталась заехать мне в бок, впрочем, безуспешно. Ловко избежав удара, я умчался за кулисы со скоростью камня, брошенного из пращи.
У каморки, не по чину именуемой гримёрной, которую я делил с двумя другими актёрами, меня поджидала Клодетта, смазливая семнадцатилетняя шалунья, чаще всего игравшая совсем юных девушек-простушек или юношей. С некоторых пор она вбила себе в голову, что влюблена в меня и буквально не давала проходу. При каждом удобном случае хитрунья прижималась ко мне своим уже далеко не детским телом и одаривала томными многообещающими взглядами. Но, ни я, ни кто-нибудь другой из труппы, не стали бы помогать ей избавиться от девственности по самым, что ни на есть прозаическим соображениям. Её отцом был сам Жером Бургони – глава труппы и владелец театра, царь и бог двенадцати мужчин и десяти женщин. С тем, кто обесчестил его дочь, Бургони рассчитался бы жестоко. Дело могло завершиться и сломанным где-нибудь в подворотне спинным хребтом. Возможно, отцовский гнев в моём случае мог смягчиться свадьбой, но я как-то не имел желания жениться даже на такой красавице с хорошим приданным. Так или иначе, Кло, как её называл отец, стремилась оказывать мне всяческие мелкие услуги, чему я не слишком препятствовал. И сейчас, она игриво преградила мне дорогу и помахала сложенной в трубочку бумагой, перевязанной синей шёлковой ленточкой.