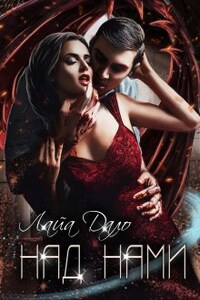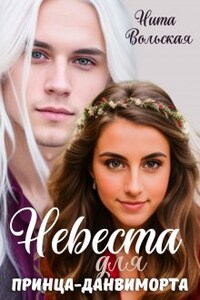Объятья в самый страшный час пусты,
не спасают от боли и страха. Разве что на секунду отвлекают от
безжалостной тьмы, той, что разгрызает сердце на тысячу кусочков,
да и только. Вроде бы, эта секунда ничего не значит, но именно она
порой отделает нормальность от шага в бездну, дает мгновенье
передышки истерзанной душе.
Объятья сменялись объятиями, а я все
стояла и смотрела на бездну у моих ног. Жуткую, попахивающую
сыростью и безысходностью. Комья земли глухо ударяли по крышке
гроба и от каждого такого удара во мне все содрогалось.
Бум. Неизбежность.
Бум. Одиночество.
Бум. Боль.
Под крышкой гроба лежит тело. Тело,
некогда бывшее моим братом. Как так?! Как такое вообще возможно?!
«Покойник» и Сашка – эти слова не должны соседствовать в одном
предложении! Не могут!
Меня мотало по спектру эмоций,
бросая из крайности в крайность, из апатии в буйное отрицание, из
депрессии в жажду мести и обратно. И по кругу, и все это в течение
нескольких минут. А потом опять. При этом какая-то часть мозга все
еще оставалась холодной, спокойной, созерцала бардак внутреннего
мира с легкой иронией и раскладывала чувства на химические
составляющие.
Можно ли сохранить рассудок, если не
очень-то и хочется? Было бы проще, намного проще скатиться в
банальную истерику, рыдать над гробом и бросаться в стылую землю
следом за братом. Холодная, логичная часть меня подтвердила – это
дало бы необходимую разрядку, позволило бы сбросить зашкаливающее
напряжение. Катарсис, после которого «чистый лист» новой жизни был
бы возможен.
Но имею ли я право на него? На
«чистый лист»? Лучший враг логического «Я» - принципиальный
подросток-максималист, привет из недавнего детства, говорил –
«Нет». Не имею права.
Пока я не найду виновных.
- Алиса, прими мои соболезнования. Я
знаю, вы очень любили друг друга...
Пустые объятья, пустые слова,
повторяющиеся раз за разом. Соболезнования боль не облегчают.
Вообще. Наоборот даже. Пока ты их не слышишь, вроде как можешь
держать себя в руках, вроде как удаётся думать о другом,
отстраниться, отсечь себя от удушающей реальности. Вот он побочный
эффект соболезнований, они вовсе не утешают, но открывают шлюз
эмоций, кран для нескончаемого потока слез. И вроде уже все
выплакала, но стоит услышать «мне так жаль», как глаза
опять наполняются слезами.
А сердце злостью.
«Так жаль»,«он был
таким хорошим»,«нам всем будет его не хватать» …
Серьезно?! А вы его вообще знали?! Кто вы такие?!
Кстати, не самый простой вопрос.
Кроме двух-трех лиц, знакомых не было. Или же это из-за постоянных
слез все черты смазывались, не складывались в образы? Без разницы.
Я не узнавала окружающих, да и плевать.
Все равно нас всегда было двое – я и
Сашка. Родители погибли, когда мне едва исполнилось три года, брату
было почти восемнадцать. Как ему отдали опеку надо мной? Не знаю,
никогда не спрашивала. Возможно, свою роль сыграли деньги, возможно
двинутый характер братца – если Сашка что-то вбил себе в голову,
остановить его было нереально. Брат решил, что я его
ответственность – брат меня вырастил.
В общем и целом, в Александре Крейне
сочетались совершенно несочетаемые черты, делая его самым
очаровательным и невыносимым человеком из когда-либо живших на
свете. В этом я была уверена на все сто. Идеализировали ли я брата?
Возможно. Имело ли это значение? Никакого. Он был и останется
стержнем, на котором держался мой мир, моим лучшим другом и
партнером во всех начинаниях. Пятнадцать лет разницы между нами
были пропастью только в чьи-то глазах, мы же всегда говорили на
одном языке, малопонятном окружающим. Да и много ли было тех,
«окружающих»? Не особо. Мы старательно выбирали близких, редко кого
допуская в личный круг.