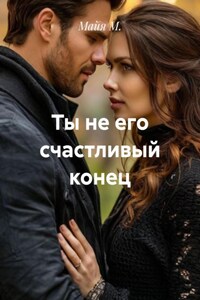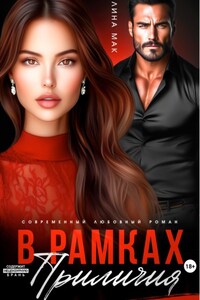Сумрак ворвался в тихий, безмятежно дремлющий край, окутав его траурным покрывалом приближающейся ночи. Медленно, еле уловимо по небу плыли облака, оставляя на земле тени, скользящие по некошеной желтеющей траве. На ветвях березы одиноко качалась иволга, тоскливо вглядываясь туда, куда солнце уносило тепло. С такими вечерами уходит лето…
Большая помещичья усадьба одиноко раскинулась под кронами высоких тополей. Белые колонны едва удерживали громоздкий фронтон; деревянные флигели, расположившиеся с его правой стороны, покосились и заросли чертополохом. Створки окон на первом этаже были распахнуты, и по комнатам гулял сквозняк. Старый обветшалый дом, тенистый сад с заросшими бурьяном аллеями – все это унылое великолепие так естественно вписывалось в пейзаж средней полосы России, что казалось, было создано не человеком, а самой природой. Ничто здесь не напоминало о наступлении последней четверти ХIX века, все было окутано печалью, в одиночестве и безмолвии, без движения, без жизни. Что-то шевельнулось в воздухе: случайный порыв по-осеннему холодного ветра унес с собой остатки затухающего дня.
Темное пятно вдали медленно приобретало очертания четырехместного крытого экипажа. Несущиеся во весь опор лошади поднимали столбы пыли. Изморенные долгой дорогой, они гнали из последних сил. Скрип рессор и топот копыт нарушали тишину и спокойствие вечера.
Прошло совсем немного времени, прежде чем пыльный экипаж въехал на центральную аллею и остановился перед парадным подъездом. Из экипажа вышел мужчина лет тридцати с небольшим. Он был высокого роста, широк в плечах, держался прямо и немного надменно, но без резкости в небрежных размеренных движениях. Густые темно-русые волосы были коротко острижены и зачесаны назад. Черты его лица – темные, глубоко посаженные глаза, густые брови, одна чуть выше другой, правильной формы нос, широкий подбородок – все говорило о железной воле и упрямстве.
Мужчина был одет по последней моде в дорогой твидовый костюм свободного кроя, на глаза надвинута мягкая фетровая шляпа. Ему было достаточно взгляда, чтобы оценить значимость тех изменений, которые произошли здесь за годы его отсутствия.
Между прошлым и настоящим усадьбы лежала пропасть. От проницательного взгляда не ускользнула ни единая мелочь. Теперь поместье производило гнетущее впечатление. Когда-то знаменитая своими размерами и роскошью усадьба стояла в руинах. Что-то сильно кольнуло его в самое сердце и разлилось по венам: оцепенение от тоски.
Но то была минутная слабость. Сантименты – удел стариков. Он нахмурился, и на лбу выступили чуть заметные морщинки.
Молодой граф Шувалов тяжело вздохнул и, помедлив несколько секунд, вошел в дом. Под ногами скрипнули половицы.
Он с трудом вглядывался в темноту прихожей, но через мгновение глаза привыкли к сумраку. Он узнал старую палисандровую мебель, пылившуюся по темным углам, комоды, шкафы, в которых хранились давно забытые вещи. Фигуры знаменитых предков надменно и с презрением смотрели с портретов на своего незадачливого потомка.
На старом комоде в окружении дешевых старомодных безделушек он случайно заметил камерный портрет сорокалетней женщины в белом. Она была изображена с высокой прической, какие носили в середине века. Горностаевая горжетка небрежно накинута на узкие худые плечи, на груди – жемчужное ожерелье. Женщина смотрела на него своими большими серыми с поволокой глазами, в которых одновременно читалась надменность и невыразимая тоска. Узкая полоска бледных, плотно сжатых в нервной улыбке губ, тонкая шея, уже тронутая незаметно приближающейся осенью, длинные пальцы и полупрозрачные в своей бледности кисти рук… – Шувалов запомнил ее именно такой…