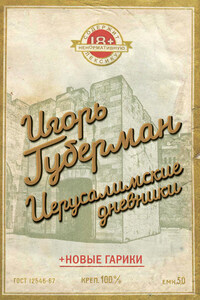Деревня Зарёвка, затерянная в дремучих, ещё не до конца покорённых крестом лесах Ростовского княжества, дремала под палящим июльским солнцем, будто под гнётом невидимой длани. Воздух был густым, как кисель, им было тяжело дышать, и каждый вздох обжигал горло. Крест на новом, срубленном год назад храме Покрова Богородицы – ещё пахнущий смолой и свежим тесом, но уже покрытый первыми трещинами, – отбрасывал короткую, утопшую в пыли тень, беспомощную и неспособную укрыть даже воробья.
Воздух над улицей, утоптанной множеством босых и лапотных ног, колыхался, словно жидкое олово, превращая дальние избы в зыбкий мираж. От края села тянуло сладковатым душком, смешанным с терпким ароматом конского пота и дымом тлеющих в печах углей. Пыль, поднятая утренним гоном скота к водопою, давно осела, и теперь каждый лист на придорожных лопухах и крапиве был покрыт её серым, удушающим налётом, словно седым прахом.
Улицы вымерли – даже бродячие псы, эти вечные бродяги, попрятались в глухой тени под сараями, тяжело дыша, высунув длинные, мокрые от жары языки. Из-под полуразвалившегося забора на Настю смотрел худой, покрытый паршой котёнок; его глаза были мутными от голода и жары, и он даже не имел сил испугаться. Лишь несчётная рать кузнечиков трещала неумолимо и монотонно в поблёкшей, выжженной траве, словно отсчитывала последние секунды этого застывшего мира, да изредка доносилось ленивое, сонное мычание коровы за околицей, у речки.
В такую пору каждый здешний житель, хоть и крещёный, от мала до велика, знал – с одиннадцати до трёх лучше сидеть в прохладной темноте избы, за плотно закрытыми ставнями, с мокрым, холодным полотенцем на голове. Не время для людских дел – время полуденной нечисти, когда, по старым поверьям, по земле ступает Сам Полуденник, и духи старых богов, что прятались в корнях дубов и в глубинах лесных омутов, просыпаются и шепчут из-под земли.
Анастасия плевала на эти глупые суеверия, доставшиеся от тёмных предков. Она, в отличие от них, знала буквы, умела читать по складам Псалтырь, и дьячок в городе говорил, что вера – в сердце, а не в страхе перед лешим или домовым.
Она сидела на скрипучих, горячих от солнца ступеньках бабушкиной избы, подставив лицо слепящему свету, будто бросая вызов самому небу. Доски под ней были шершавыми, истерзанными временем и множеством ног; в щелях между ними росли жёсткие травинки, тоже покрытые пылью. Солнечные лучи прожигали тонкую домотканую поньковую ткань платья, согревали кожу приятным, хоть и обжигающим теплом. Рыжие, словно раскалённая медь, пряди выбивались из-под поношенного холщового платка и липли к влажному виску. Веснушки на переносице и скулах, обычно бледные, теперь потемнели и проступили на загорелой коже, как рассыпанная корица.
В длинных, тонких пальцах она вертела сорванный стебель полыни – его горький, пыльный запах, запах древних степей и забытых божеств, смешивался с ароматом нагретой смолы и древесины. Бабушка настаивала, чтобы Настя носила его за пазухой, «от сглазу и лиха», но девица, наученная грамоте городским дьяком, лишь с раздражением теребила упругий ветвистый стебель. Она поднесла его к носу, вдохнула эту горькую пыль, и ей почудилось, что это не просто запах травы, а самый дух этой земли – суровый, неласковый, не желающий забывать своё языческое прошлое.
– Не ходи в поле в полдень, дитятко, – донёсся из полумрака сеней хриплый, старческий голос, похожий на шорох сухих листьев. И тут же, оттуда же, пахнуло на Настю прохладным дыханием подполья, запахом сушёных грибов, лечебных трав и старого, намоленного дерева.
– Не ровен час… В это время и Господь отвращает лик свой, и солнце-батюшка гневается. Не время для живых. – Голос бабушки Агафья плыл из полумрака сеней, густой, как смола, и такой же вязкий.