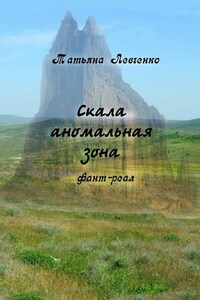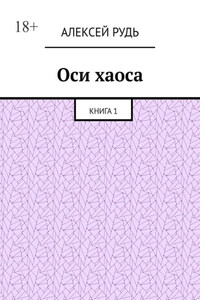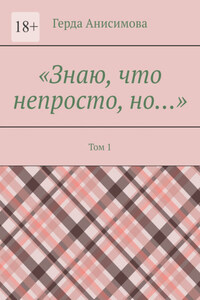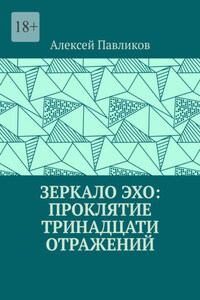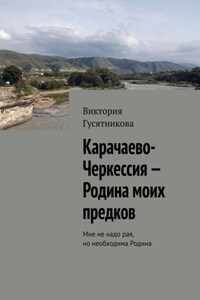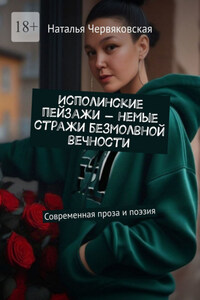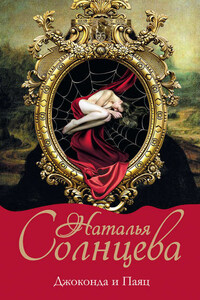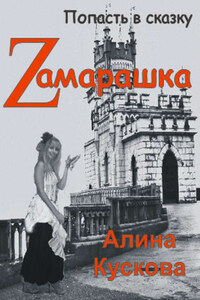* * * * *
В этом задрипанном театрике заштатного городишка, куда мы приехали на гастроли, нет не то, что пепельницы, но и порядочного освещения в гримёрной. Прилепленные к высокому сводчатому потолку, люминесцентные лампы выдавливают из пыльных внутренностей плафонов дрожащий голубоватый свет. Впечатление – что находишься под куполом отвратительной скользкой медузы. По бокам большого, обшарпанного зеркала одно бра горит вполнакала, а у второго вовсе обрезан шнур. Нищета наша, Господи!
Культура в упадке, бывшие шикарные дворцы рушатся без ремонта. Так ещё и тащат всё, что плохо лежит. Да и что хорошо – тоже не обходят стороной. Куда ни приедешь – всюду одно и то же. Тоска зелёная! Слава Господу, что в эту, пусть опустившуюся, в нищете своей, культуру, всё-таки можно ухнуть с головой, уйти в роль настолько, что спектакль и реальность меняются местами.
Уйти бы в роль навсегда… Особенно в эту, последнюю…
Я криво усмехнулась своему жуткому отражению. Можно даже не гримироваться: глаза опухшие, ресницы слиплись, в несвежей туши, какие-то круги, пятна… Впрочем, к моей «шикарной» внешности не стоит добавлять огрехи зеркала. И так с души воротит!
Звонок, долгий, дребезжащий, заставил меня вздрогнуть, обронив длинный столбик пепла на пол. А! Всё равно больше – некуда. Надо поспешить. Уже второй звонок, а я ещё не бралась за грим.
На репетицию не явилась: этот старый боров сначала долго не отпускал, а потом давай торопить – даже не смогла привести себя в порядок. Ну, ладненько, сейчас всё подправим. Главное, никто не видит: из гримёрной уже все ушли. Я бросила на пол погасшую сигарету и начала лихорадочно открывать баночки-коробочки. Руки заметно дрожат. Плохо. Однако придётся потерпеть до конца спектакля. Через час, правда, меня уже всю будет колотить и ломать. Но, по роли, через час, мне такое состояние и надо: дикий истерический хохот, ненависть ко всему на свете, готовность придушить любого, кто встанет на пути: Смерть уводит за собою каждого, кто оглянется на этот жуткий хохот. Нет, всё же я – великая актриса: даже ломку использую на благо спектакля. Зрители в восторге от такой «натуральности» игры. Правда, сразу же после занавеса, мне придётся, сломя голову, нестись к машине, где в бардачке ждёт… Но сейчас надо готовиться. Пока никто не нагрянул…
Не успела так подумать, как дверь за моей спиною отворилась, и на пороге возникло грозное явление в образе Герочки Петушкова, нашего режиссёра.
– Ты что, постучать не можешь?! – преувеличенно недовольно спросила я, поспешно склоняясь над баночками с гримом, чтобы не отражаться в зеркале во всей своей красе.
– Можешь не гримироваться. – Спокойно ответил он, закрывая дверь.
Я удивлённо подняла голову, глянула на него в зеркало. Герочка, вопреки моему ожиданию, негодования не излучал. Стоял, скрестив руки на тщедушной груди, надменно-спокойный, чуть выставив вперёд правую ногу в безукоризненно от утюженных брюках. Рубашка белоснежная, аж хрустит, «бабочка» топорщит «крылышки» под острым выступающим кадыком. Волосы его, обычно живописными рыжими космами рассыпающиеся по плечам, сейчас гладко зачёсаны и стянуты на затылке чёрной бархоткой. (Господи, ради кого он выпендривается?! Ради этой тупой провинции, не способной отличить Шекспира от Ширвиндта?) Худое лицо его, тщательно выбритое, аскетического типа, но с неожиданно мягкой линией рта – бесстрастно. Взгляд серых глаз из-под высоких, с изломом, бровей устремлён на моё отражение в зеркале пристально-холодно. Бр-р-р, страсти какие!..
– Что, этому сараю, именующему себя Дворцом культуры, нечем оплатить электроэнергию и спектакль отменяется? – саркастически спросила я, прикуривая новую сигарету.