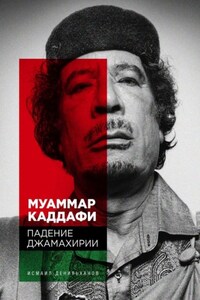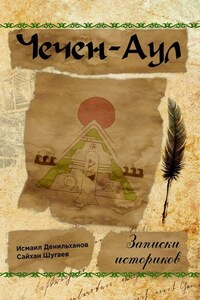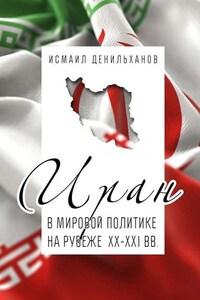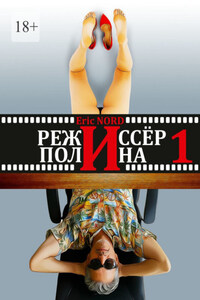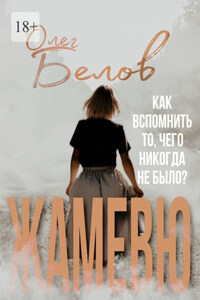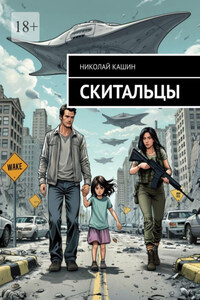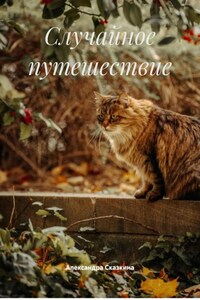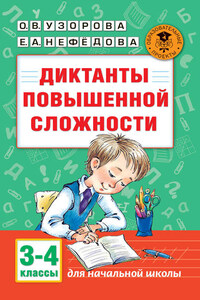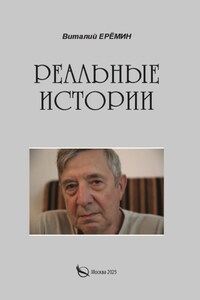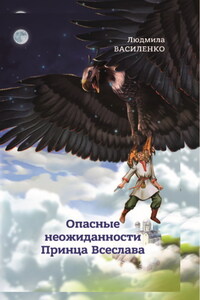Асламбек родился в селе, где шум реки перебивал зов муэдзина, призывая к пятикратной молитве. Село Чечен-Аул – древнее, как сама память народа. Здесь каждый камень что-то знает. Здесь к имени добавляется не просто отчество, а честь рода.
Детство Асламбека было беззаботным. Он бегал босиком по горячей пыльной земле, карабкался по деревьям, слушал рассказы стариков, хотя тогда не понимал, зачем они столько говорят о «предках, державших слово». Ему просто было интересно – как они говорят, как смотрят в сторону гор, будто ищут там кого-то.
Отец был сдержан, работал молча, и в его молчании было больше смысла, чем в целой проповеди. Мать – мягкая, как талая вода, но сильная в духе. Она учила его: —
«Асламбек, добро делай тихо, чтобы даже правая рука не знала, что сделала левая».
У них не было богатства. Но было достоинство. А в доме – порядок и чай, который всегда ставили, если к калитке подходил человек.
Старший брат научил его читать Коран – не из принуждения, а потому что это было частью дыхания семьи. А дедушка во дворе, опираясь на палку, рассказывал, как когда-то пешком доходил до Мекки. Асламбек слушал – и впервые почувствовал, что вера – это не запреты, а путь.
Он не знал тогда, кем станет. Но в этих простых днях закладывалось всё: уважение, к слову, к земле, к людям. Там, на тихих улицах села, он впервые почувствовал: быть человеком – это обязанность, а не просто состояние.
Среди всех людей, оставивших след в жизни Асламбека, дедушка Абдула был, пожалуй, самым глубоким.
Он не был самым громким, но был самым весомым. Его слова не повторяли – их хранили. Его поступки не обсуждали – на них равнялись.
С раннего детства Асламбек чувствовал, что дедушка – это не просто старший в семье. Он был как кибла для духа: не давил, но направлял.
Абдула редко говорил прямо. Он говорил притчами, поступками, паузами между словами. В этих паузах было больше истины, чем в громких речах.
– Если не ищешь смысл – значит, уже заблудился, – говорил он. – Если не чувствуешь несправедливость – сердце уснуло. А спящее сердце – опаснее слепых глаз.
Абдула был набожным, но никогда не осуждал. Он знал Коран наизусть, но не размахивал им, как мечом. Он молился так, как будто разговаривал – не потому, что должен, а потому что хотел. Он учил Асламбека тонкой грани: что вера – это не только обряды, но и поведение, достоинство, справедливость.
– Не бойся быть один, если стоишь на истине, – говорил дедушка. – Лучше быть в одиночестве с правдой, чем в толпе и с ложью.
Когда дедушка ушёл из жизни, Асламбек чувствовал, что потерял не только родного человека. Он потерял живое зеркало, в котором видел, каким должен быть мужчина, верующий, человек.
Но вместе с этой потерей он обрёл внутренний ориентир. С тех пор, в самые важные моменты – перед принятием решения, перед выбором пути – Асламбек будто слышал голос дедушки внутри: «Спроси себя, ты справедлив? Или просто удобен?»
Этот голос не покидал его позже, ни в Аммане, ни в Мекке, ни в Дохе, ни в шуме больших конференций. Именно дедушка Абдула заложил в Асламбеке то, что потом стало его личным компасом: любовь к смыслу и ненависть к несправедливости.
Когда Асламбеку исполнилось пятнадцать, детство словно испарилось.
Смерть дедушки, первые вопросы без ответов, давление времени и ожиданий – всё это пришло почти одновременно. Он вдруг ощутил: быть «просто хорошим мальчиком» больше недостаточно. Мир требует зрелости. Даже если ты к ней не готов.
Он учился в районной школе, где учителя уважали его за сдержанность и пытливость. Но ему было тесно. Он всё чаще глядел в сторону горизонта. Грозный, Москва, Стамбул, Амман – названия звучали, как ключи от дверей, за которыми может быть ответ на вопрос, который он ещё не умел точно сформулировать.