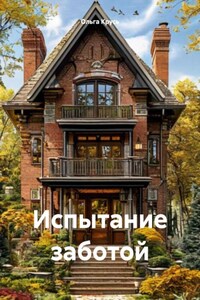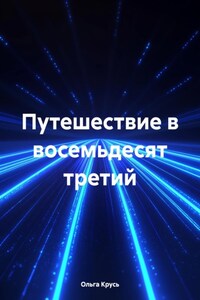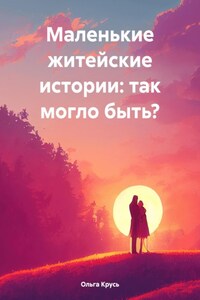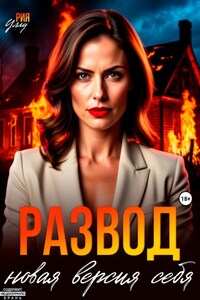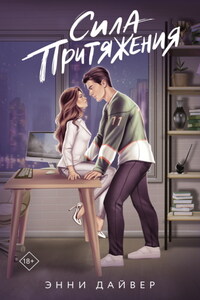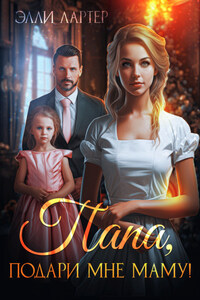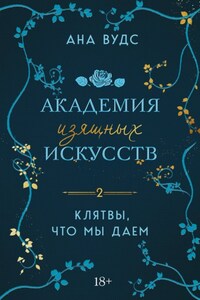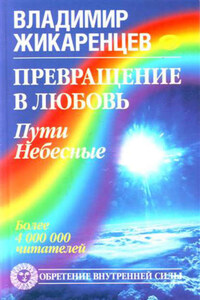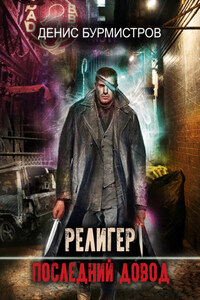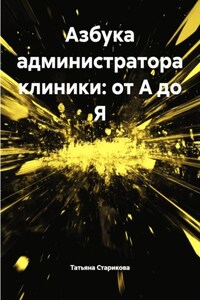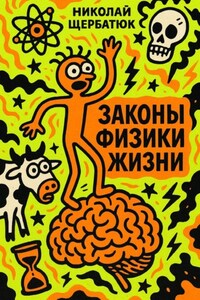Борис Степанович рвался на части: перед женой ему нужно было постоянно играть стареющего отца семейства, ни о чем больше не помышляющего, кроме как о тишине и спокойствии, а перед молодой подругой – бодрого, полного сил и планов перспективного мужчину. Обе роли давались с трудом.
Если бы Бориса Степановича попросили честно ответить, какое же амплуа он сам хотел для себя выбрать без навязанных жизнью сценариев, то он бы признался, что больше всего мечтает о том, чтобы его все оставили в покое, хотя бы на пару недель. Он бы поехал к себе в родную деревню, попарился в баньке, посидел с удочкой на берегу местной речушки, отключил на все это время телефон, чтобы ему не звонили с работы, не доставала сообщениями жена и не требовала постоянного внимания подруга. Собрался бы с мыслями и силами, а потом вернулся отдохнувший от всего и от всех, и тогда, может быть, он бы и смог понять, какую роль ему доигрывать, а от какой отказаться. Пока же ему просто не давали такой возможности: он все время должен был быть начеку, думая, кому и как угодить и как не перепутать роли и желания.
Особенно напряженным в этом плане всегда было лето. Супруга уходила в отпуск и всю свою энергию сосредотачивала на нем, стараясь предупредить его малейшее желание и в ответ ожидая того же. Отпуск у нее, как у учителя, был большой. Борис Степанович был человеком не чуждым таким возрастным семейным радостям, как домашняя кухня, выглаженные рубашки, вовремя поданные таблетки, прописанные врачом для профилактики определенных заболеваний, риск которых возникает в его годы. Пятьдесят – это, конечно, не возраст для мужчины, но лучше заранее подумать о будущем.
«Папочка, обед уже готов, приезжай!»
«Папочка, не забудь про витамины!»
«Папочка, тебе пора ложиться спать, завтра рано на работу, ты должен отдохнуть».
Круглосуточное внимание жены порой было невыносимо. И эта ее манера называть его «папочка». Сначала она так называла его только для сына: «Вот как папочка наш решит, так и сделаем». С годами она вроде как забыла его имя и называла теперь только «папочкой». Надо отметить, что супруга настолько ценила семейные ценности, что не только ему доставалась такая манера обращения. И сына она звала только «сынок», «сынуля», если строго, то «сын». Тот же принцип обращения был у нее ко всем родственникам – и близким, и дальним, дополняемый лишь именами, если надо было в разговоре понять, о ком именно идёт речь – «тётя Муся», «дядя Серёжа». Если же она говорила кому-то о Борисе Степановиче в третьем лице, то тоже всегда упоминала слово «муж»: «Мой муж Борис…»
Борис Степанович несколько раз когда-то пытался намекнуть жене, что для нее-то он никакой не «папочка», но это было бесполезно, пришлось смириться с учительской непоколебимостью жены: «Профессиональная деформация, – думал он иногда про себя, – раньше она такой не была. Теперь, что задумает, что запланирует – не свернуть». Впрочем, все что ни делала его жена, все что ни планировала – все это было только в интересах семьи. И хорошо, когда есть кто-то, кто так предан дому.
Зная за собой некоторые грешки, Борис Степанович особенно ценил эту верность и непоколебимость супруги. Одно плохо: летом, когда она не занята школой, очень трудно выкроить для себя хоть час свободного, неподконтрольного ей времени. Порой такие истории приходится выдумывать, что маститый писатель бы позавидовал. Да еще придумать так, чтобы все пазлы сошлись, потому что супруга учеников видит насквозь, он это знает. На первом же слове всегда обличала обман сына, если он в детстве пытался что-то сочинить в оправдание своих каких-то проделок. Поэтому, когда Борис Степанович рассказывал жене о затянувшемся совещании, о внеплановой работе, о сложной семейной ситуации бывшего однокурсника, которому срочно понадобилась психологическая товарищеская помощь, о лопнувшем не вовремя колесе на дороге, он должен был выступать не только как автор «маленьких историй», но и как актер, в лице которого не дрогнет ни один мускул при вранье. Впрочем, ни разу пока он не попадался на лукавстве.