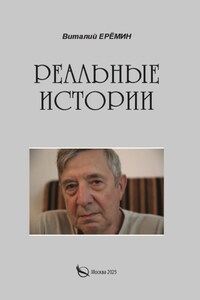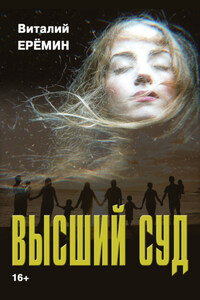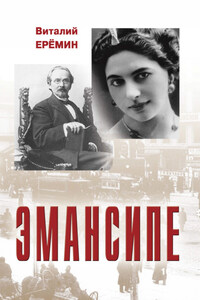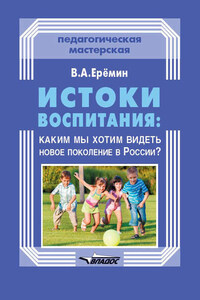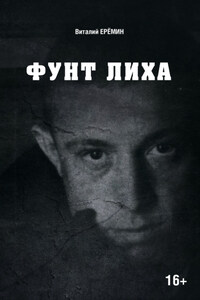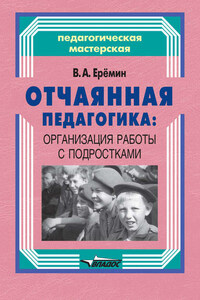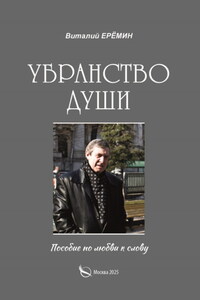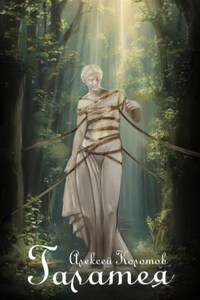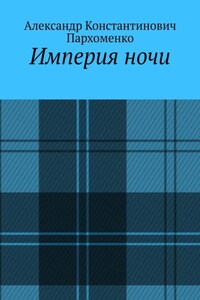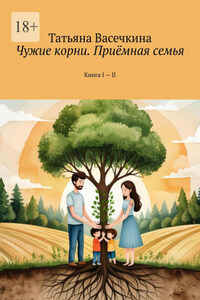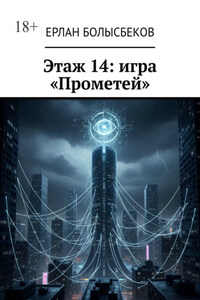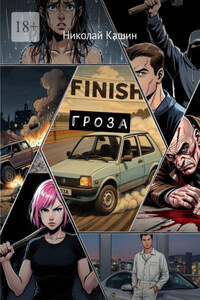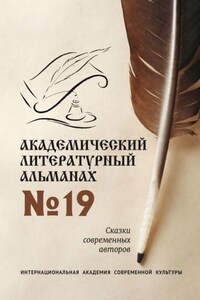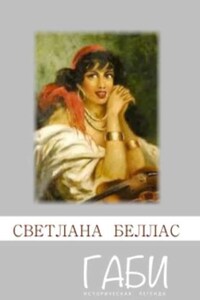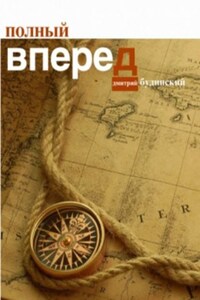Каноны conte
(вместо предисловия)
Писать рассказы как-то особенно интересно. Сегодня начал и сегодня же вчерне закончил. Считай, в один присест. Последующая отделка не в счет. Но это, конечно, сроки торопыг.
Раньше автора спрашивали, что он хотел сказать читателю, сегодня это глупость. Не дело писателя-как бы оправдываться. Сам читатель должен соображать. Ну, или критик, рецензент. Хороший критик найдет у автора то, о чем тот и не помышлял.
Чем больше озадачен читатель (критик) вещью, тем она интереснее. Значит, автор заложил в текст достаточно смыслов, истин, загадок, скрытой дидактики.
Писатели не любят читать других. Хотя читать надо – в своих же интересах. То ли стимул получишь, то ли утешение. То ли… но об этом впереди.
Радуюсь, когда встречаю что-то, заставляющее читать дальше. Радуюсь запоминающемуся смачному словцу. («Свежий старик», к примеру, у Толстого). Но особенно – какой-то психологической тайне, придающей тексту полноту и объем.
Вот, хоть убей, не люблю длинных рассказов, больше 10 страниц. Я уже все понял, уже проникся (если было чем), а рассказ, словно пластинку, заело.
Мне нравится роман, где каждая часть – как бы отдельный рассказ. Прочел и отложил до следующего раза. Скажем, «Царь-рыба» В. Астафьева.
Даже у великих писателей много «болтовни». Сегодня это особенно недопустимо. Автор должен чувствовать пределы ненатужного восприятия. Вспоминается Бунин с его «извольте не переступить ста строк». Будто сегодня сказано.
Рассказ возник как жанр раньше романа. Возможно, еще в эру ужинов в пещерах: «бойцы вспоминали минувшие дни». А короткий рассказ (conte) развился уже во Франции, около 1600-го года.
«В conte сочинитель имеет возможность полностью осуществить свой замысел, каков бы он ни был, – писал Эдгар По. – Именно короткий рассказ таит в себе наилучшие возможности для проявления величайшего таланта». Это явно о себе, но все равно верно.
Сами американцы объясняли особую краткость своих рассказов темпом их американской жизни. Сказалась также их знаменитая деловитость. Автор с первых строк должен переходить ближе к делу. Если затянет начало, потеряет читателя.
Страдают ли при этом краски, разные тонкости? Смотря у кого. Но даже если страдают, американцев это не колышет.
Сюжет для короткого рассказа американцы умудрялись развить, и он дотягивал до сюжета полноценного романа. И наоборот, из сюжетов, предназначенных для романов, выходили добротные короткие рассказы.
На первом месте в рассказе, как известно, ситуация, в романе-характер. В американском рассказе это соединилось. Хороший американский рассказ стал выделяться экстравагантностью, некоторым даже эпатажем характеров, сцен. Автор знал, что издатель не купит у него скуку. А читатель знал, что его не надуют – не продадут ему скуку.
Многие наши сегодняшние рассказы отличаются ничтожностью темы и смыслов. Чтобы сконструировать по-настоящему жизненный сюжет, нужно иметь насыщенный жизненный опыт. Или хотя бы какое-то совсем особенное воображение. А если этого нет?
Между прочим, это первый критерий. Ничтожно произведение по авторскому замыслу, по теме, по характерам персонажей или не ничтожно. Этого критерия держался Лев Толстой. Кому только не доставалось от него. Даже великому А. Островскому: ««Гроза», по-моему, плачевное сочинение».
Корней Чуковский писал: «Толстой не изображает людей; он, подобно артисту, преображается в них». Михаил Булгаков добавил к этому, объясняя себя: «По сути дела, я – актер, а не писатель». Иначе говоря, секрет большого писательства-в талантливом перевоплощении автора в своих героев. Не случайно некоторым даже большим писателям не удавались пьесы: не хватало такого рода актерства. А Чехов не просто шагнул в драму из прозы рассказа, а создал свою оригинальную форму пьесы, сценичность которой угадали корифеи МХАТа.