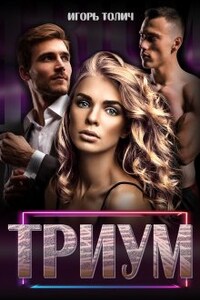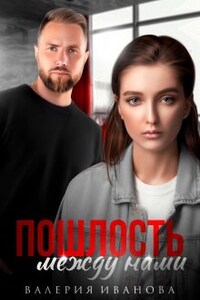Удивительное дело, дорогая Марта.
Мне не кажется, а точно так и есть. Здесь время имеет другую
продолжительность. В минутах те же шестьдесят секунд, но каждая
секунда длиннее примерно вдвое. Я не знаю, что именно воздействует
на меня: воздух или местная пища, или молекулярный состав здешней
воды, но наверняка понимаю, что моё перемещение в пространстве
затронуло не только точку на карте, обозначающую меня, но то что мы
привыкли осязать как ритм дня. Его не стало и вместе с тем появился
новый. Он совсем не похож на тот, каким мы жили в нашей
микроскопической квартирке с надтреснутым подоконником. На него
было страшно поставить даже кактус, не то что усесться с кофе и
книгой и смотреть в окно на глухой серый дождь. Поэтому мы садились
за кухонный стол и в последнее время всё больше молчали. Я — о
своём, ты — о своём.
Кстати, больше, чем по нашему молчанию, я скучаю по нашей
кофеварке. Она осталась с тобой, как почти всё, что у нас было,
осталась и, наверное, продолжает тебя радовать по утрам. А я купил
себе турку и уже проклял всё на свете. Никаких особых умений эта
медная жестянка не предполагала при покупке и досталась мне почти
задарма на каком-то развале, собранном, нужно полагать, из
ворованных туристических багажей или комиссионных вещей, которые
сносят жалкие пьяницы. За такие деньги в ларьке возле бывшего нашим
подъезда можно было бы купить коробок спичек, а я ухватил настоящую
кофемашину бедуинского образца.
Готовлю я на газу на двухкомфорочной плитке. И после появления в
моей жизни упомянутой турки цвет плиты начал меняться день ото дня.
Поначалу я с этим боролся, пытаясь возвратить её в первоначальное
состояние. А теперь плюнул и стараюсь долго не горевать, когда в
очередной раз прозеваю момент вскипания. Прозевываю я регулярно.
Эта ехидная тварь (я сейчас о турке) греется по часу и делает вид,
что остается достаточно холодной, чтобы я ушёл в туалет или
отвлёкся на книгу. Но как только я отворачиваю взгляд, она
мгновенно закипает. Причём очень тихо, и подает сигналы бедствия
лишь тогда, когда огненный кофе брызжет по конфорке, по стенам, по
полу, а затем и по моим пальцам, когда я пытаюсь то ли спасти его,
то ли обезвредить.
Это происходит почти каждое утро. Почти каждое утро я вспоминаю
с благодарностью нашу кофеварку, и почти каждое утро эта
благодарность немного сильнее, чем сутки назад. Когда-нибудь я
поймаю себя на мысли, что то была не кофеварка, а божественный,
сакральный дар, недостижимый в теперешней жизни. Так всегда
происходит с прошлыми вещами и людьми, и вообще с прошлым, которое
не можешь отпустить: постепенно начинаешь видеть его идеальным,
чересчур прекрасным, таким, каким оно вовсе не было, но время и
память сделали своё дело, довели до максимума сентиментальную
горечь и поставили на пьедестал почета. А с учётом того, как много
у меня здесь времени, как неторопливо оно течёт, я заново влюблюсь
в тебя, дорогая Марта, и затоскую по нашей прошлой жизни гораздо
быстрее, чем в краях, где мы когда-то жили с тобой.
Я долго думал и решал, стоит ли мне публиковать эту книгу. Она
слишком личная и слишком значимая для меня. Она ознаменовала собой
переходную черту, когда я полностью осознал себя писателем, и
окончательно понял, с чем хочу связать свою жизнь. Это не значит,
что в произведении описана моя частная жизнь, но совсем без
частностей, конечно, не обошлось. Разумеется, в целом — это
художественная, но для меня — особенная работа. В чём-то интимная.
Но я знаю, как многим людям, мужчинам и женщинам, иногда просто
необходимо прочесть ровно такое "ненаписанное письмо".