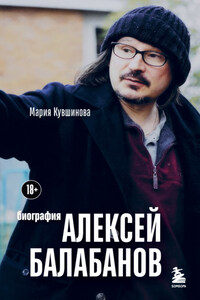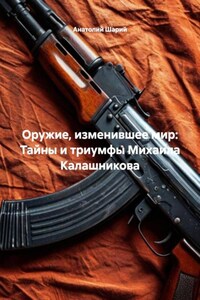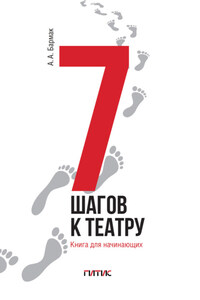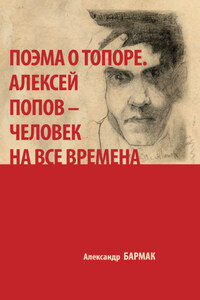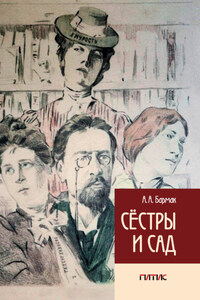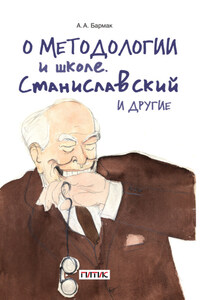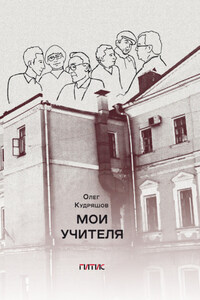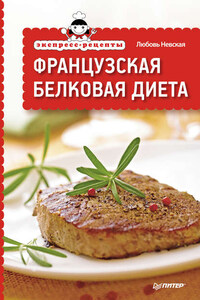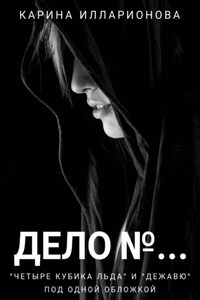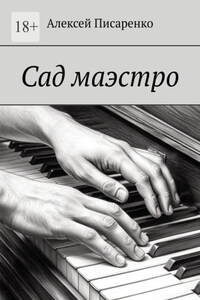Предисловие
Автобиография глаза
Эта книга – автобиография кинокритика. Это автобиография медиаживотного, которое без разбора поглощает визуальный контент из любого источника. Но я постаралась сделать так, чтобы она была интересна не только поклонникам жанра автофикшн.
Я писала о кино с середины 1990-х, а в конце нулевых стало слишком заметно, что с кинематографом что-то происходит – визуальный океан XX века в веке XXI начал превращаться в остров, трансформируясь под воздействием цифровых технологий и конкурирующих медиа. Результатом этих наблюдений стала книга «Кино как визуальный код» и конференция «История кино как медиаархеология», которую мы с коллегами по журналу «Сеанс» провели на Новой сцене Александринского театра в 2015 году.
Кинокритика – одновременно очень закрытая и очень инклюзивная профессия. Для полевой работы в ней совсем не обязательно обладать теоретической базой. Книга «Кино как визуальный код», известная среди моих знакомых под прозвищем «визуальный кот», была собранием догадок и гипотез, почти не подкрепленных теорией. Сидя в кинозале или перед монитором компьютера, я в режиме реального времени открывала и описывала многое из того, что уже было описано и открыто теоретиками. Тогда, в 2015 году, моя коллега Александра Ахмадщина предложила пригласить на нашу конференцию известного исследователя кино и медиа Томаса Эльзессера – и он неожиданно согласился. Одним из последствий его визита в Санкт-Петербург стал выход в издательстве «Сеанс» русского перевода их совместной с Мальте Хагенером работы «Теория кино. Глаз, эмоции, тело». Оказалось, что уважаемых авторов интересовал тот же круг вопросов, что и меня, – цифровая трансформация кино, влияние носителей (от пленки до DVD) на кинокультуру и содеражание фильмов; физиология взаимодействия кино и зрителя. Наверное, мне надо перестать переживать из-за того, что «Визуальный код» недостаточно фундирован, и порадоваться, что мои интуиции двигались в том же направлении, что и у Эльзессера (уж теперь-то, будьте спокойны, я умею пользоваться источниками – и мне приходилось сдерживаться, чтобы не превратить эту книгу в палимпсест из цитат).
Прошло десять лет, на русском языке вышло множество книг по теории медиа и кинематографа, зарубежные источники стали более доступны, а цифровая трансформация продолжалась пока в 2022 году, наконец, не появились общедоступные коммерческие модели для генерации текстов, картинок и видео. Новый инструмент, очередной доминирующий вид на планете Земля, предмет ожесточенных споров – в обиходе его называют «искусственный интеллект», очевидно меняет и то, что я называю договором между экраном и зрителем. Договор этот представляет собой набор не всегда сформулированных конвенций, определяющих наши отношения с движущимися изображениями, на которые мы смотрим.
Каждый новый этап в истории визуальных медиа предполагает перезаключение этого негласного соглашения – процесс, который происходит постепенно и с участием больших групп людей («Хранишь ли ты старые договоры?» – спрашивает меня один из пользователей Twitter, ныне X). Художники протестовали против фотографии; первые зрители братьев Люмьер, по широко распространенной легенде, бежали от прибывающего поезда. Сегодня генеративные изображения и видео, или как их презрительно называют «ИИ-слоп», вызывают ненависть у одних, интерес у других, а для третьих выглядят, как нечто достоверное, как слепок реальности.
Почти все вирусные генерации, которые мы видим в соцсетях в середине 2020-х являются обработкой и переосмыслением уже знакомых картинок и лиц: морфинги с возрастной трансформацией знаменитых актеров, музыкантов и политиков; лидеры стран, марширующие по подиуму то в образе маленьких детей, то в качестве супергероев в компании гигантских животных, символизирующих из страны; Виктор Цой и Сергей Бодров, отдыхающие сидя, на земле между съемками небесного «Брата 3». И даже вспыхнувший в начале 2025 года «итальянский брейнрот» («бомбардилло крокодилло»), сделанный, казалось бы, без участия человека, в русскоязычном пространстве отсылал к сказкам Эдуарда Успенского и Корнея Чуковского. Так ретропическое сознание использует для своего выражения самую актуальную и самую постмодернистскую из всех технологий – генеративные модели, создающие новые картинки и тексты из все, что когда-то было сначала создано, а потом оцифровано.