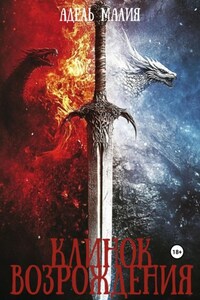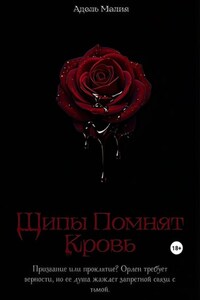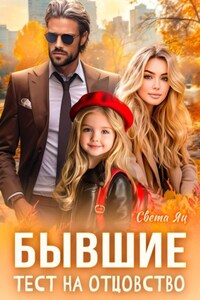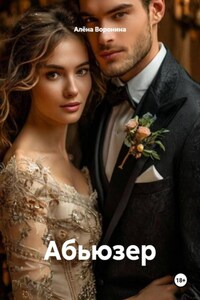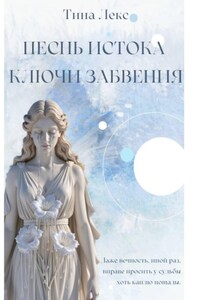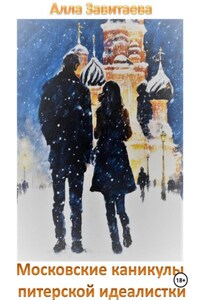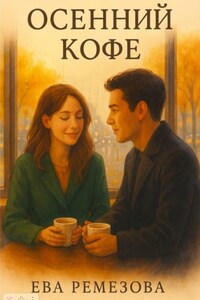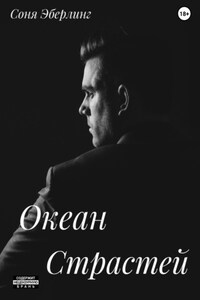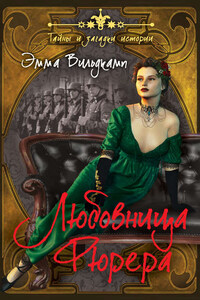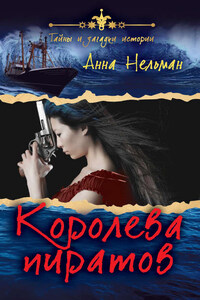Тишина Архива была обманчивой – не пустотой, но густой, тяжёлой, сотканной из шелеста сотен тысяч страниц, скрипа старых переплётов под собственным весом и мерного тиканья настенных часов, отсчитывающих время, давно потерявшее значение для миров, заточенных в этих стенах. Но громче всего звучало моё собственное дыхание – осторожное, сдавленное, будто я боялась потревожить не только хрупкий пергамент под руками, но и само равновесие этого пыльного царства. И пыль… Боже, пыль была вездесущей субстанцией этого места. Мелкая, серая, вечная, как сама история, запертая в стенах из тёмного дерева и стали. Она оседала на белых хлопковых перчатках тончайшей вуалью, въедалась в линии ладоней, которые уже никогда не станут по-настоящему чистыми, и витала в строгих лучах холодного света от моей настольной лампы, превращая воздух в зыбкую материю времени. Я вдыхала её с каждым скупым вдохом, чувствуя, как мельчайшие частицы цепляются за слизистую горла, оседают где-то глубоко внутри. Как вина. Как неотвязная, въевшаяся память.
Передо мной, закреплённый в мягкие держатели из микропоры, лежал пациент: «Хроники Михаила», XVI век. Переплёт из когда-то роскошной, а ныне потрескавшейся и утратившей блеск телячьей кожи, страницы, пожелтевшие не только от времени, но и от небрежного хранения где-то в сыром подвале. Чернильные росчерки поблекли, корешок едва держал блок, а по краям форзацев ползла безжалостная паутина рыжеватых пятен плесени. Моя задача – укрепить корешок невидимыми японскими бумажными шпонками, аккуратно подклеить отходящие форзацы, вывести пятна специальным гелем на основе целлюлазы, не повредив хрупкую структуру бумаги. Это была ювелирная работа, где инструментами служили терпение, микроскопические дозы клея и абсолютная неподвижность руки. Работа искупления. Каждая спасённая страница – крошечный камешек, брошенный в бездонный колодец моей вины.
Я винила себя в смерти матери, умершей, рожая меня. Эта мысль всплывала сама собой, как всегда, когда кончики пальцев в перчатках прикасались к чему-то древнему, беззащитному перед временем. Непрошеная, резкая, как укол булавкой. Отец никогда не произносил этих слов вслух, но я знала: видела это в его глазах – в той мгновенной тени, что ложилась на его лицо в дни моих именин, в том, как его взгляд иногда скользил по мне, не видя меня, а видя пустоту, которую я оставила. Я была его живым напоминанием о невосполнимой потере, его проклятием и его единственным светом, слитыми воедино. А потом… потом я чувствовала себя причиной его гибели. Дважды «виновная». Испорченная вещь, несущая разрушение всему, к чему прикасается.
Я смочила тончайшую кисточку в дистиллированной воде, аккуратно удалив излишки о промокашку, и моё сердце замерло: сейчас одно неверное движение, чуть сильнее нажим, малейшая дрожь в пальцах – и крошечный фрагмент осыпающегося золотого обреза на краю страницы превратится в горсть бесполезной позолоты. Золото здесь – всего лишь пигмент, иллюзия прочности и вечности, как и всё в этом мире; одно мгновение небрежности – и частица истории, чья-то боль, молитва или любовь, запечатлённая здесь столетия назад, рассыплется в пыль навсегда. Как карьера отца и его репутация рассыпались на той проклятой выставке «Книги и Манускрипты», когда краснолицый коллекционер Тернер орал на него, тыча толстым пальцем в едва заметный надрыв на миниатюре Псалтыря, а все вокруг – коллеги, конкуренты, просто зеваки – смотрели со смесью ужаса и презрительного любопытства… А я, четырнадцатилетняя, глупая, переполненная гордостью за его работу и желанием разделить её красоту, неосторожно прислонилась к нему, желая что-то рассмотреть, и случайно толкнула его локтем. Его рука дрогнула. Микроскопическое движение. Но для Тернера этого было достаточно. Крик: «Несчастный! Бездарь! Ты погубил шедевр!» И лицо отца… Оно стало пепельным. Пустым. В нём не осталось ничего, кроме стыда и обречённости.