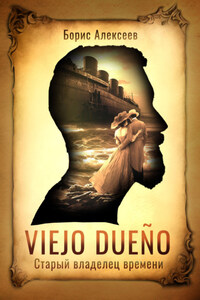Веретено тихо жужжало у меня в руке.
Куделька щипалась, нитка тянулась, огонь потрескивал в печи, пахло
гречневой кашей – разопрелой в печном жару, с вытопленным сальцем,
с обжаренным лучком… Было мне тепло и спокойно, как вдруг сова на
жердочке под потолком раскрыла круглые глаза, растопырила клюв,
завертела головой и трижды ухнула.
- Ещё кто-то та-а-ащится, - зевнул
чёрный, как уголь, кот, лежавший на коврике возле моих ног. – Ночь
на дворе. Куда их несёт? Хоть бы поутру приходили…
- Ты не мяукай там, а черепа зажги,
- сказала я сердито и отложила прялку.
Впрочем, сердилась я не на кота, а
на того остолопа, которому, и правда, не спится в ночь глухую. И
принесла же очередного дурака нелёгкая!..
Кот потянулся, мягко и упруго –
будто ивовая ветка согнулась, я приоткрыла дверь, и он так же гибко
юркнул за порог, в предночную темноту.
Тем временем я окунула руки в ковшик
с водой, похлопала себя по щекам, постучала подушечками пальцев по
лбу, взъерошила волосы, прошептала заветное словцо, и вот уже на
меня глянуло моё отражение – моё и не моё. В это лето мне
исполнилось двадцать три, но в зеркале отразилась старуха лет
восьмидесяти, седая, морщинистая, с крючковатым носом до
подбородка, со впалыми губами, и маленькими поблекшими глазами без
ресниц.
Эх, хороша!..
Я полюбовалась на себя, улыбнулась,
показав единственный зуб, и в который раз мысленно поблагодарила
Коша Невмертича за то, что открыл преображающее заклятье. Насколько
легче жить в наше время девушке, знающей, как вмиг превратить себя
в старуху, чуть покрасивее жабы.
- Мя-я-яу-у-у! – раздалось со двора
дикое завывание Одихунтьевича.
Это был условный знак, что гость уже
возле тына. Я взяла метлу, прокашлялась, чтобы говорить хриплым
голосом, и вышла на крыльцо, пинком распахнув дверь.
Привычная картина – за тыном шумит
ночной дремучий лес, на кольях черепа горят пустыми глазницами и
щёлкают зубами, а перед воротами-заворотами стоит очередной добрый
молодец и от страха клацает зубами почище черепов.
Через доски ворот мне было плохо его
видно – только рубашка белела в темноте. Или это была его
побледневшая физиономия? Ну не суть. Главное, чтобы побыстрее его
спровадить, а то каша переварится.
- Фу-ты! Фу-ты! Никак русским духом
пахнет?! – гаркнула я, потянув носом в одну сторону, а потом в
другую. - Кто посмел меня потревожить? Кому жизнь не мила?
- А-а… я-а… м-мне-е… - раздалось
блеяние по ту сторону забора.
Я подождала ещё, но ничего более
толкового не услышала.
- Баран, что ли? – спросила я, сунув
метлу под мышку.
Одихунтьевич скакнул мне прямо на
голову, и я увидела, как на воротах заплясали зелёные отблески от
его горящих глаз.
- Д-другак, Поспешаев сын… -
послышалось хоть что-то похожее на человеческую речь.
- Чудесно, - прорычала я. – И что
тебе здесь сдалось, Дурак, Поспешаев сын? Спешишь к пращурам
отправиться?
По ту сторону испуганно икнули, а
потом снова заблеяли:
- К-коня хочу у тебя попросить…
богатырского…
- Ах, коня-я? – зарычала я ещё
грознее. – А знаешь ли ты, Мертвак, Поспешаев сын, что мои кони –
они за золото не продаются, за драгоценные камни не
вымениваются?
- Лю… любую службу тебе сослужу,
сударыня Ягища, - залепетал этот Другак-Дурак.
- Прямо любую? – усомнилась я.
- Что прикажешь! Всё сделаю! –
выпалил он уже пободрее и с надеждой.
- Не тяни, - зашипел Одихунтьевич
мне в ухо, - а то бояться перестанет.
- Уйди, тварь хвостатая, - прошипела
я в ответ и скинула его с головы на крыльцо.
Кот приземлился на все четыре лапы,
выругался неприлично и витиевато, а потом задрал заднюю лапку,
принявшись вылизывать то, что в приличном обществе показывать не
полагалось.
- Тебе зачем конь, паря? – спросила
я, поудобнее перехватывая метлу и предвкушая скорый и вкусный ужин
в компании кота и совы.