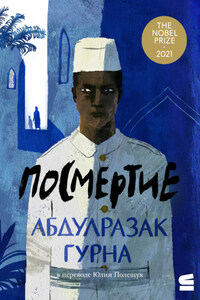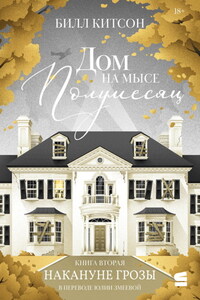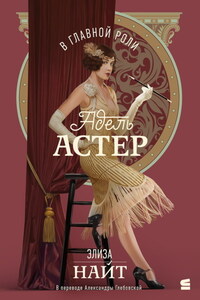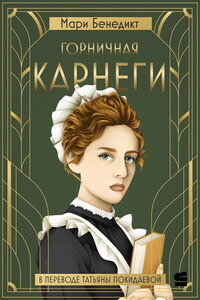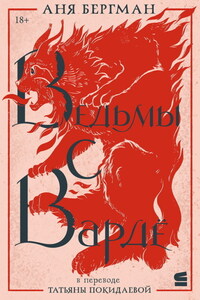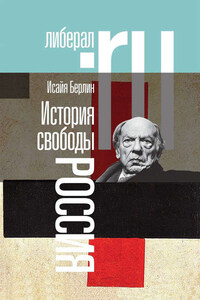1
Однажды, задолго до неприятностей, он украдкой выскользнул из дому и больше не вернулся. А сорок три года спустя упал на пороге своего дома в английском городке. Час был поздний, он возвращался с работы, да и вообще было поздно. Он слишком долго откладывал, и винить было некого, кроме себя.
Он чувствовал приближение катастрофы. Не со страхом перед крушением, который жил в нем с тех пор, как он себя помнил, а с таким чувством, как будто надвигается на него что-то упорное, мускулистое. Это не был удар из ниоткуда, а скорее похоже на то, что какой-то зверь медленно повернул к нему голову, узнал его и двинулся его душить. В голове было ясно, силы вытекали из тела, и в этой ясности он подумал – не к месту, – что так, наверное, умирают с голоду, или на морозе, или когда булыжник вышибает из тебя дух. Он даже поморщился, несмотря на тревогу: смотри, какую мелодраму устраивает усталость.
Он ощущал усталость, уходя с работы, – такая усталость, бывало, наваливалась на него в конце дня, а в последние годы всё чаще: хотелось сесть и ничего не делать, пока слабость не пройдет или чьи-нибудь сильные руки не поднимут его и не доставят домой. Он состарился – или старел, если сказать мягче. Желание было как будто знакомое, как будто вспоминалось что-то из давнего прошлого – как его подняли и доставили домой. Но он не думал, что это – воспоминание. Чем старше он становился, тем более детскими казались иногда его желания. Чем дольше он жил, тем ближе придвигалось его детство и всё меньше казалось далекой фантазией о чьей-то чужой жизни.
В автобусе он пытался понять причину своей усталости. И пытался уже столько лет разобраться, найти объяснения, которые ослабят страх перед тем, что преподносила ему жизнь. В конце каждого дня он прослеживал свои шаги, пытаясь определить ошибки, из-за которых обессилел к концу, – словно знание этого (или осознание) могло утешить. Во-первых, возраст, изношенность незаменимых деталей. Или утренняя спешка перед работой, хотя никому нет дела, если он опоздает на несколько минут, а его до конца дня будут мучить одышка и изжога. Или заваренная в общей кухне чашка паршивого чая, после которого бурчало в животе и подкрадывалась изжога. Молоко целый день стояло в кувшине, незакрытое, собирало пыль, поднятую входящими и выходящими. Не надо было трогать это молоко, но он не мог устоять перед соблазном. Или потратил много сил, неумело и без нужды поднимая и двигая тяжелые вещи. Или просто заболело сердце. Он никогда не знал, в какую минуту оно заболит, с чего и надолго ли.
Но сейчас, в автобусе, он чувствовал, что с ним происходит что-то необычное. Накатывала беспомощность, отчего он невольно хныкал, его плоть разогревалась и съеживалась, заменялась неведомой пустотой. Происходило это медленно, дыхание сбилось, он дрожал, потел и видел себя кучкой, человеческим оползнем – тело ожидало боли, растекалось. Он видел себя со стороны, в легкой панике от медленного, неостановимого распада грудной клетки, бедренных суставов, хребта, словно тело и сознание отделялись одно от другого. Резко кольнуло в мочевом пузыре, и он задышал часто, испуганно. «Что с тобой? Припадок? Прекрати истерику, дыши глубже», – приказал он себе.
Он вышел из автобуса, дрожа от слабости, заставляя себя глубоко дышать. Февральский день выдался неожиданно холодным, и он был одет не по погоде. Люди вокруг были в тяжелых шерстяных пальто, в шарфах и перчатках, зная по опыту, какой холод их ждет на улице, – а он, прожив здесь много лет, как будто не знал. Или, в отличие от него, люди слушали сводки погоды по радио и телевизору и радовались, что у них есть одежда на такой случай. А он из месяца в месяц носил одно и то же пальто, спасавшее от дождя и холода, но и не слишком теплое для мягкой погоды. Он так и не привык набивать шкаф одеждой и обувью для разных случаев и сезонов. Это была привычка к экономии, он мог уже об экономии не заботиться, но расстаться с привычкой не мог. Он любил донашивать вещи, в которых ему удобно, и ему нравилось думать, что если бы повстречался с собой, то узнал бы себя издали по одежде.