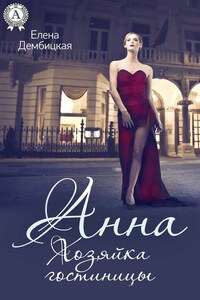Нервные повизгивания скрипки сотрясали нагретую тишину
полупустого придорожного кафе. Старый скрипач следил, как в такт
движению его смычка скользит по замерзшему стеклу палец девушки,
сидящей за пустым столиком. Прищурившись, он увидел чёткий силуэт
двух летучих мышей, парящих крылом к крылу. Скрипач продолжал
играть. Когда он дёргал головой, рисунок на стекле дрожал, и
крылатые создания ночи будто бы танцевали.
Девушка тоже дрожала, хотя толстый серый свитер мог вогнать в
жар любого. Наконец она спрятала замёрзший палец в длинный рукав и
обернулась к скрипачу. Так резко и неожиданно, что пиликанье на миг
стихло. Потом смычок издал протяжный вой и упал на колено старика.
Затем снова взмыл в воздух и ловко вывел хриплую руладу ночного
кузнечика. Девушка смотрела на него в упор, и старик в который раз
поразился её нездоровой бледности. Одной рукой она поддерживала
голову под подбородок, словно боясь ненароком уронить на
стол, а второй вытащила из деревянного стакана салфетку и принялась
упоенно ее рвать. И вдруг — вот ведь удивительно — помахала ему
бумажной скрипкой.
Старик заиграл снова — на этот раз только для нее. Но вот
незадача — пиликанье больше не занимало девушку. Она смотрела на
подмерзающих на стекле летучих мышей, зато скрипач вновь смог
незаметно любоваться ею. Старик не назвал бы ее красивой, но
миловидность тонких черт и было тем, что притягивало мужской
взгляд. Льняные, подстриженные лесенкой волосы, явно мешали, и
девушка то и дело откидывала их с лица. Но тут между ними встала
белая спина официантки.
— Ваш кофе и заварные булочки, — сказала грудастая девица на
дурном английском с румынским гортанным выговором.
— Простите, но я просила с собой, — довольно чисто ответила
девушка и вновь откинула волосы с бледного лица.
Одна прядь зацепилась за массивный перстень с рубином,
украшавший указательный палец правой руки, и с тихим русским
ругательством девушка выдернула из своей не шибко богатой шевелюры,
не морщась, несколько волосинок. Грудастая официантка, скривив рот,
удалилась, захватив с собой злополучные булочки, а девушка открыла
висевшую на спинке стула сумку и достала термос.
— Разрешите присесть, домнишоара? — произнес скрипач на
коверканном русском и навис над пустым столиком.
— Прошу вас, — отозвалась девушка на родном языке. — Я принесла
ваш портрет, как и обещала.
Скрипач с шумом подвинул стул и тяжело опустился на него.
— Тебе бы выспаться, дорогая Валентина… На кого ты после такого
отпуска будешь похожа! — его голос дрожал, как и струны вытертого
инструмента. — Брось этот портрет…
Но, говоря это, скрипач все сильнее перегибался через стол,
чтобы заглянуть в сумку, которую Валентина вновь открыла, чтобы
вытащить две плотные картонки. Она опустила их на стол и приподняла
верхнюю, чтобы открыть глазам старика прекрасную акварель. Старик
дрожащими руками взял рисунок и едва удержался, чтобы не поцеловать
бумагу: с пористого акварельного листа на него смотрел молодой
музыкант, залихватски откинувший голову. Старик зашамкал тонкими
бесцветными губами, но ничего не сказал, лишь заскрипел старыми
суставами, заламывая пальцы.
— Тебе бы лет так тридцать назад меня послушать, пока руки не
болели, — сказал он совсем тихо. — А сейчас даже из милости на
свадьбы не приглашают. А я вот что тебе скажу, Валентина: скрипка —
это музыка любви. Да, да… А зимой у нас тут делать нечего: снег
кругом, ничего не видать, а вот летом зелень и фрукты в садах. Нет,
в Румынию надо ездить только летом. А это что?
Старик махнул на окно, и Валентина как-то слишком быстро дыхнула
на стекло, чтобы стереть рисунок.
— Граф Дракула и Мина, — усмехнулся старик. — И ославили же нас
на весь мир. Ну нет у нас в Трансильвании вампиров, нет. Вот
оборотней — сколько хочешь, одного я даже сам видел… Однажды ночью,
тоже зимой дело было, иду там, ближе к окраине, где дома ещё старые
и заборы покосившиеся… Мы вчера туда с тобой не дошли.