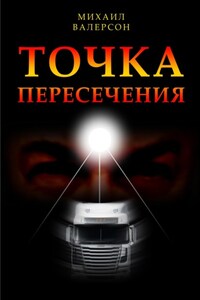Сегодня ровно год со дня смерти отца.
Его могилка, простая, неприметная, стандартных размеров, находится в череде таких же. Ничем не отличается. Простые люди все-таки приняли его в свои ряды. Для этого ему пришлось всего-то умереть.
Помню, что мы с матерью и сестрой долго выбирали фотографию для надгробного камня. На всех он был одинаковым – с приподнятыми бровями «домиком» и этим неизменным смущенным выражением на лице. Хотелось найти такую, где он улыбается. Не этой неловкой улыбкой, а настоящей, искренней, веселой, расслабленной, без оглядки на прошлое. Но не нашли – события, которые с ним произошли, наложили на его лицо неизгладимый отпечаток. Он, будучи учителем литературы, никогда не любил штампы, и сейчас, наверное, указал бы мне на эту замыленную фразу про «отпечаток», но… Разве здесь скажешь по-другому?
Упомянутые события лично я почти не помню. Хотя и был их участником. Как мне потом объяснили, мое сознание выстроило защитный блок, организовало укромный чулан в моей голове, куда сложило все воспоминания, которые могли меня хоть как-то травмировать, и заперло их там. Что тут сказать? Я всегда был впечатлительным ребенком. По крайней мере, со слов матери. Наверное, сознание сделало все правильно.
Обо всем произошедшем в те дни уже потом мне рассказал как раз отец. Точнее, рассказывал. Раз за разом, с периодичностью, наверное, в месяц. Я сам требовал от него этого. Назойливо, настойчиво, упрямо, как умеют только дети. Я любил слушать эту историю. С этим не могла сравниться никакая книга, никакой фильм. Потому что все произошедшее имело место на самом деле, с людьми, которых я сам когда-то знал или знаю до сих пор. И отец, конечно, соглашался. Сначала, в первые разы, он вел свой рассказ бегло, аккуратно, и в общих чертах. Похоже, он как-то сговорился с моим сознанием и тоже не хотел подвергать меня лишнему стрессу. Но по мере того, как я взрослел, повествование обрастало новыми, все более серьезными и пугающими подробностями. Может, поэтому мне не надоедало слушать эту историю раз за разом. Я всегда находил в ней что-то новое.
Последнюю версию произошедших десять лет назад событий я услышал за месяц до ухода отца. Он был уже очень плох, и становилось ясно, что долго он не протянет. Но несмотря на это, он все же нашел в себе силы и потратил пару часов утекающей жизни на то, чтобы снова поведать мне «как все было». И я очень благодарен ему за это. Он подарил мне возможность побыть с ним еще. Рядом с человеком, которого я безмерно люблю и уважаю.
Странно, но отцом я его при жизни никогда не называл. Хотя нужно было. Всегда обращался исключительно по имени. Сначала дядя Коля. Потом, когда чуть подрос, Николай. Никаких «папа», «отец» и уж тем более «батя» в нашем доме не звучало. Наверное, я просто стеснялся. Начать просто так ни с того ни с сего обращаться к нему «папа» не решался, а подойти и спросить: «Можно я буду называть вас отцом?» – мешало ощущение того, что при этом я либо сгорю от стыда, либо провалюсь под землю. И он никогда не звал меня сыном. Наверное, чувствовал примерно то же самое. Все-таки в плане стеснительности и нерешительности мы были с ним очень похожи.
Даже когда сидел у его койки в больничной палате и слушал в последний раз рассказ о случившемся, я по-прежнему выдавливал из себя формальное «Николай». Казалось бы, вот он, идеальный момент. Но нет, не набрался решимости. А может, и правильно. Он навсегда останется для меня просто Николаем. Добрым, отзывчивым, спокойным, но несколько отстраненным, погруженным в свои мысли. И слово «отец» в моей голове уже никогда не сольется с его образом.
Поэтому и сейчас, проговаривая все это про себя, не буду изменять привычке.