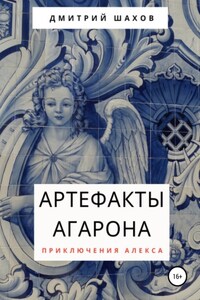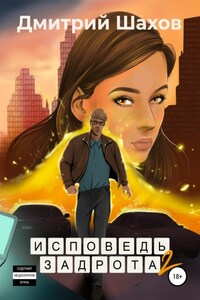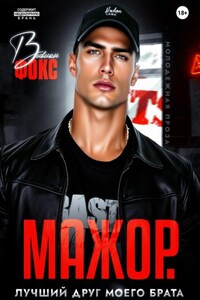Воздух в нашей хрущевке был густым и тяжелым, как бульон. Он впитывал в себя все запахи жизни: вчерашней жареной картошки с луком, дешевого освежителя в туалете, маминого уставшего пота и папиного бензинового дыхания. Я лежал на диване, уткнувшись в потрепанный смартфон, и пытался не дышать. Не дышать этим. Не впитывать эту серую безнадегу, что просачивалась из щелей в паркете, сочилась с облупившихся обоев и висела неслышным гудением в проводах старой проводки.
За стеной на кухне шел вечерний ритуал.
– Света, ну что там? – доносился голос отца, глухой и усталый. Он только что вернулся с рейса, отвезал мебель по Подмосковью. От него пахло дорогой, машинным маслом и чем-то безвозвратно потраченным.
– Щас, щас, картошка дожаривается, – откликалась мама. Ее голос был тоньше, на изломе. Она заступала в семь утра, а сейчас уже восемь вечера. Двенадцать часов на ногах в отделении, где пахло хлоркой и болезнями.
Я представил их жизнь в виде простой, жестокой диаграммы. Деньги уходят быстрее, чем приходят. Силы заканчиваются раньше, чем наступает ночь. Мечты… а были ли они у них когда-нибудь? Или они сразу стали этими взрослыми, с потухшими глазами и вечным счетом в кошельке?
Меня от этих мыслей начинало тошнить. Буквально. Сжимало под ложечкой. Мне было пятнадцать, и весь мой горизонт планирования упирался в ЕГЭ, армию и… И что? Институт? Чтобы потом, как папа, возить чью-то мебель? Или, как мама, вытирать чужие задницы? Извините за прямоту. Но в моей голове это звучало именно так. Жизнь как бесконечный, бессмысленный цикл.
Я перевернулся на живот, уткнувшись лицом в прохладную кожу дивана. В школе сегодня была Лера Соколова. Из параллельного класса. Она прошла мимо, и от нее пахло не жареной картошкой, а чем-то цветочным и недоступным. У нее были длинные светлые волосы, которые переливались на солнце, и смех, как звон колокольчика. На меня она не посмотрела. Никогда не смотрела. Я для нее был пустым местом. Неуклюжим подростком в дешевых джинсах и потрепанной куртке.
От этой мысли стало еще более тошно. Не только от безнадеги будущего, но и от настоящего. От осознания своей невидимости, своей… никчемности в глазах тех, кто имел значение.
«Артем, иди ужинать!» – позвала мама.
Я с трудом поднялся с дивана и побрел на кухню. Тесная, заставленная старыми шкафчиками, с столом, застеленным клеенкой с выцветшим рисунком. Центр вселенной скромного отчаяния.
Мы сели. Тарелки с картошкой и сосисками. Чай в самых дешевых кружках из Икеи.
– Ну как, в школе что? – спросил отец, не глядя на меня, разминая вилкой пюре.
– Нормально, – буркнул я.
– «Нормально» – это не ответ, – он поднял на меня взгляд. Его глаза были такими же, как у меня, серо-зелеными, но в них не было ни капли любопытства, только усталая обязанность спрашивать. – Контрольные есть? Двойки?
– Нет двоек. Все нормально.
Наступило молчание. Прерываемое только чавканьем и звоном вилок.
– К Леонтьевне завтра на вызов иду, – проговорила мама, словно продолжая вслух свою внутреннюю повестку дня. – Опять с давлением. В восемь утра. Сереж, ты завтра во сколько?
– В шесть уже выезжать. В Люберцы, опять этот склад, – отец отпил чай и поморщился. – Опустили еще расценки, сволочи. Теперь за тот же рейс на пятьсот рублей меньше.
Я смотрел на них и видел не родителей, а двух загнанных лошадей, которые бегут по кругу, и этот круг с каждым годом становится все уже. И я следующий в этой упряжке. Эта мысль вызывала во мне тихий, но яростный протест. Нет. Нет, черт возьми. Я не буду как они. Я не хочу, чтобы от меня пахло бензином и усталостью. Я не хочу, чтобы моя жизнь измерялась скидками в «Пятерочке» и подержанными вещами.