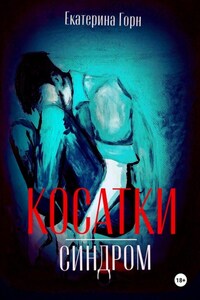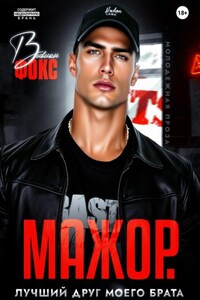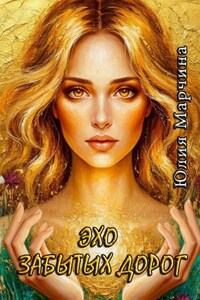Пролог: Наковальня Прощания
Дождь струился по стеклянной крыше вокзала, не каплями, а сплошным, свинцовым потоком, словно само небо решило смешать все краски ночи в одну – грязно-серую, безысходную. Он стоял, прислонившись спиной к холодной кафельной стене, и чувствовал, как эта стена впитывает в себя остатки его тепла, его жизни, по капле вытягивая ее, как пиявка. Вокзал в этот час был подобен гигантскому склепу, где время распадалось на два измерения: «до» и «после». А он застрял в щели между ними, в этом мучительном, растянувшемся на вечность «сейчас».
Евгений только что совершил акт самоубийства. Не физического – тому он бы, возможно, нашел в себе мужество. Нет. Он уничтожил ту версию себя, что могла бы быть счастлива. Он отправил ее прочь, на этом ночном поезде, уходящем в никуда, солгав ей в самые честные глаза, которые он когда-либо видел. И сейчас, слушая, как затихает в отдалении перестук колес, он понимал: это не поезд уходит, это от него отрывают кусок плоти, без анестезии, живьем.
Испытание приходит извне. Оно – как буря, обрушившаяся на этот вокзал. Оно – как меч, которым он только что заколол свое будущее. Он чувствовал себя кузнецом, который добровольно лег на наковальню и сам же обрушил на себя молот. Он прошел это испытание. Выстоял. Не побежал вдоль перрона с криком ее имени, не умолял остаться, не отозвал свой приговор. Он выковал себя в жестокий, правильный поступок. И что же он получил в награду? Не гордость, не чувство выполненного долга. Лишь зияющую пустоту в груди, которая медленно заполнялась цементом одиночества.
Но разве это было испытание? Нет. Это было искушение. Самое утонченное и дьявольское из всех. Потому что оно рождалось изнутри. Оно было тихим голосом, который шептал ему на языке его же собственных желаний: «Возьми ее. Она твоя. Ты все просчитал. Ты заслужил этот восторг, это наслаждение, эту завершенность». Оно не ломало его стены – оно предлагало ключ от потайной калитки, ведущей в сад земных наслаждений, где цвела только она одна, Софья. Искушение не требовало сражения, оно сулило капитуляцию под знаменем любви. И в этом был его ужас. Сражаясь с ним, он сражался с частью самого себя – с той частью, что жаждала ее, что видела в ней не просто женщину, а недостающий фрагмент собственной вселенной.
И он победил. Победа над искушением – это победа над собственной природой. И теперь он понимал, о чем был тот древний, забытый текст. Эта победа не пахнет порохом. Она пахнет потом одиночества. Потом, что холодной испариной покрыл его лоб, несмотря на промозглый холод вокзала. Он отказался от того, что так страстно хотела его душа. И теперь его душа была не чище, не благороднее. Она была пуста.
Он посмотрел на свои руки. Они были сухими. Не дрожали. Его тело, его внешняя оболочка, все еще подчинялось приказам разума. Но внутри… внутри шел распад. Он чувствовал это физически, почти тактильно – как тончайшие, невидимые нити, скрепляющие его личность в единое целое, одна за другой начинают лопаться. Его ум, этот острый, отточенный инструмент, которым он всегда так гордился, теперь был подобен сломанному компасу, стрелка которого бешено вращается, не находя севера. А где был его север? В ее взгляде. В ее смехе. В том, как она произносила его имя – «Женя», не «Евгений», а именно «Женя», с какой-то почти детской доверчивостью, которую он теперь предал.
Он мысленно повторял свою ложь, как заклинание, пытаясь вновь ощутить ее правдоподобность. «У меня все прошло. Я ошибся. Это было увлечение, не больше». Слова, которые должны были стать щитом для нее и для тех, кто остался за его спиной – для Дмитрия, с его верной, глупой дружбой, для Ани, с ее тихой, несбыточной надеждой. Но щит оказался зеркалом, и он видел в нем свое отражение – не благородного страдальца, а труса, который предпочел разрушить один мир, чтобы не нести ответственность за хрупкое равновесие в других.