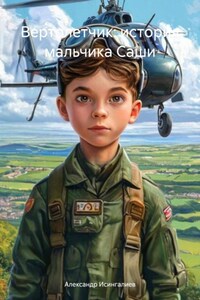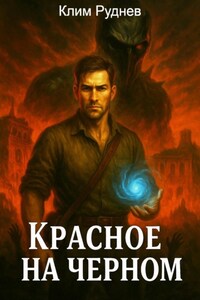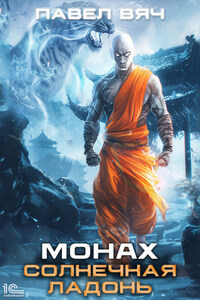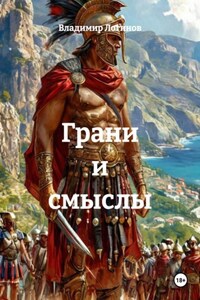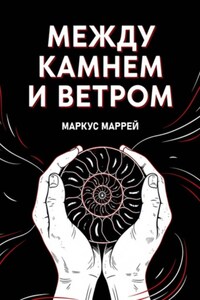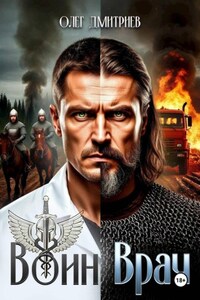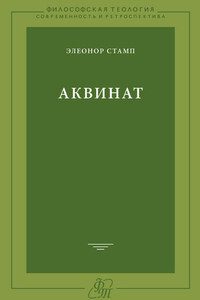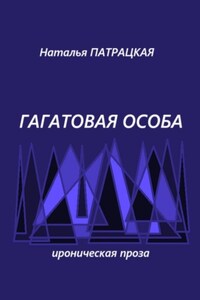КНИГА ВТОРАЯ: ЭФФЕКТ МЕРЛИНА
ПРОЛОГ
Рассекреченная стенограмма заседания Командования люфтваффе. 15 декабря 1940 года. Берлин.
Генерал-лейтенант Ганс Йешоннек:Повторю вопрос, профессор. Вы утверждаете, что наши неудачи в небе над Британией – это не следствие тактических ошибок или превосходства «Спитфайра», а результат… вмешательства извне?
Профессор доктор Каспар Фридрих Вейцзекер (физик-теоретик, консультант Аненербе):Не совсем так, герр генерал. Я утверждаю, что мы наблюдаем симптомы такого вмешательства. Слишком много совпадений. Их истребители оказываются в нужном месте в нужное время с невероятной точностью. Их зенитки предвосхищают маршруты наших бомбардировщиков. Наша собственная шифровальная машина… – он сделал паузу, – …даёт сбои, которые наша же разведка интерпретирует как следствие нечеловеческой логики противника.
Йешоннек: Вы говорите о шпионаже. О «Ультре».
Вейцзекер: Я говорю о том, что превосходит шпионаж. Агентура не может предсказать погоду с абсолютной точностью за неделю. Она не может предоставить чертежи технологий, которые опережают наше время на годы. – Он открыл портфель и извлёк папку. – Вот отчёт группы «Фальке». Их последняя операция по ликвидации цели, известной как «Источник», провалилась не из-за провала разведки. Она провалилась потому, что противник знал о ней до того, как она началась. Капитан фон Бах описывал это как «ловушку, расставленную самим временем».
В кабинете повисло тяжёлое молчание.
Вейцзекер (тише, но убедительнее):Есть теория. Всего лишь теория. Что в результате некоего катаклизма – возможно, связанного с нашими экспериментами с магнитными полями в Норвегии – произошёл… хронологический разрыв. Сквозь него в наше время просочился некий объект. Или субъект. Обладающий знанием грядущего. Союзники называют его «Мерлин». Мы называем его «Хроносом».
Йешоннек: Сказки для сумасшедших.
Вейцзекер: Возможно. Но если это не сказка, то этот «Мерлин» – величайшее оружие в истории человечества. Тот, кто получит его в свои руки, получит ключ не только к победе в этой войне, но и к будущему. Все будущие войны будут выиграны им. – Он отодвинул папку. – Абвер формирует специальную группу «Зигфрид». Их задача – не убийство. Захват. Любой ценой. И я рекомендую, герр генерал, чтобы люфтваффе предоставило в их распоряжение наши… самые перспективные разработки. Ту самую эскадрилью, что базируется в Пенемюнде. Пора испытать их в реальных условиях.
Авиабаза «Тангмер» тонула в предрассветной мгле, сквозь которую проступали угрюмые силуэты «Спитфайров». Капитан Артур Кембл, стоя на краю лётного поля, затягивался последней затяжкой перед вылетом, пытаясь прогнать остатки сна и снять привычное, липкое напряжение, свинцовым грузом лежавшее в желудке.
– Ну что, «Бродяга», готов к утренней прогулке? – его голос прозвучал хрипло, но с привычной долей иронии.
«Джон Картер», он же Зейн Митчелл, не отрываясь, проверял обшивку крыла своего самолёта. Его пальцы, привыкшие к гладкому композиту F-22, с трудом узнавали шероховатость клёпаной алюминиевой кожи «Спитфайра».
– Всегда готов, – коротко бросил он, и в его голосе не было ни страха, ни энтузиазма. Только сосредоточенная готовность. Это был его щит. За два месяца жизни в шкуре «Картера» он научился не думать. Не вспоминать. Просто делать. Летать. Сражаться. Выживать. Это была примитивная, почти животная страсть, но именно она и спасала его рассудок.
Их задачей было прикрытие конвоя, идущего в Ливерпуль. Маршрут пролегал над Бискайским заливом – опасные воды, кишащие немецкими подлодками и дальними истребителями.
– Погода – дерьмо, – сообщил молодой пилот по кличке «Малыш», застёгивая спасательный жилет. – Сплошная облачность до трёх тысяч. Немцы могут свалиться на нас как снег на голову.