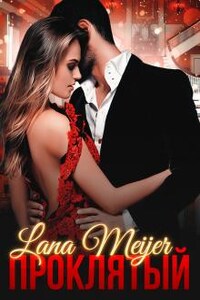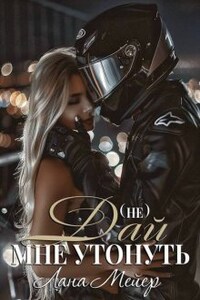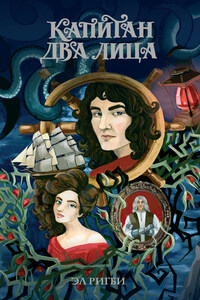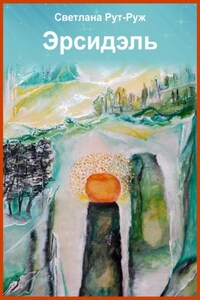Весь мир не в силах сокрушить нас,
и только сами мы изнутри разрушаем себя.(с)
М
Весь мир не в силах сокрушить
нас, и только сами мы изнутри разрушаем себя.(с)
Маргарет Митчелл. Унесённые
ветром
Брэндан
Это все просто кошмарный сон.
Я с силой сжимаю веки в надежде на то, что, когда распахну
их вновь, время повернется вспять, и все будет так, как и должно
быть.
Как было почти восемнадцать лет, до этого дня.
Все, чему меня учили, все, к чему готовили... Теперь
казалось ехидной усмешкой судьбы, миражом какой-то другой жизни,
которая больше мне не принадлежала.
Еще вчера я был гордостью. Я был не просто именем. Я был
всем для сотен и тысяч людей, которые превозносили меня и в чертах
моего лица видели надежду.
Это чувство дарил людям не только я, но и мой брат.
Но в данную секунду мои виски царапала рыхлая земля, на
которой я лежал. Именно сейчас я слышал душераздирающий гомон из
криков толпы, жаждущей расправы надо мной.
Над своим королем. Над предателем.
Но хуже всего ощущалась неимоверная боль, которая окутала
всю спину — от самого начала позвонков, до затылка. Агония была
дикой — будто мою кожу распороли и воткнули в нутро с дюжину
кинжалов. Так глубоко, что металл бы полностью скрылся, оставляя на
свету лишь рукоятки, расписанные фамильным гербом.
Я знал, что сколько бы толпа не просила, ударов больше не
будет. Пройдет минута, и меня поднимут с земли, закинут в машину, в
которой я буду истекать кровью. Я сомневаюсь даже в том, что
там мне окажут какую-либо
помощь.
От этих мыслей вдруг захотелось всхлипнуть, но я немедленно
укорил себя за собственную слабость.
Я не такой. Меня не этому учили всю жизнь. Слово
"слабый" с рождения отсутствовало в моем словаре.
Во главе моего словарного запаса стояли такие слова как:
"Честь. Мужество. Гордость.".
На всех пяти языках, которые я знал.
Внезапно, обучение показалось мне такой нелепостью. Какое
теперь значение имеют мои знания? Многочисленные языки, музыка,
боевые искусства, в которых мне не было равных?
Никакого. Я еще не осознал того, что теперь до конца жизни
меня ждут лишь тьма и клеймо предателя. Ну, и, конечно, холод и
одиночество в подземельной камере Адинбурга.
Я знал, что прошла всего минута после последнего удара, но,
погрязнув в своих собственных размышлениях, ощутил ее как целую
вечность.
Боль была настолько сильна, что я уже не пытался встать. Я
помню, чем это закончилось в последний раз, и не настолько глуп,
чтобы рисковать снова.
— Убить его! Убей его! Смерть лжепринцу! Смерть грязному
предателю и убийце! За Бастиана!
За Бастиана. За Бастиана. За Бастиана.
Пространство площади наполнилось вскриками, восхваляющим
моего брата.
При мысли о Бастиане мое сердце сжалось от другой боли,
которая была гораздо сильнее чем та, что причиняли
физически.
Эта боль была глубже — она задевала каждый нейрон моего
мозга и перетекала прямо в сердце, заполняя его темнотой.
Я не хотел, чтобы все так вышло.
Мама, Отец, Меридиана. Никто из нас не заслужил
смерти.
Этот народ, который сейчас ненавидит меня, не заслужил
беспорядков и боли, которые их ждут во власти Парламента.
Семья.
То слово, которое еще совсем недавно имело самое главное
значение в моей жизни, вдруг утратило всякий смысл.
Я позволил скупой слезе скатиться по своей щеке, когда
окончательно осознал то, что никто из них не выжил. Может быть,
только Мэри. Они же не посмели бы убить
ребенка...?
Еще как посмели бы. Они бы перерезали ей горло в два счета,
если бы хоть на миг увидели ее невинное детское личико.
Перед глазами замелькала Мэри — по пухлым щекам стекают
горючие слезы; нож, представленный к ее шее, породил на свет
небольшие капли крови, вытекающие из вен...
Всего одно движение. На каждом из нас. И весь остаток нашего
рода навсегда истреблен и погружен в подземелья.