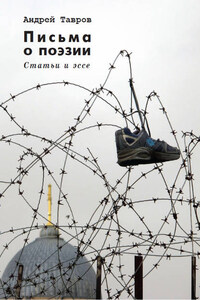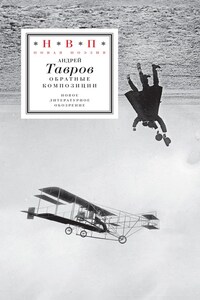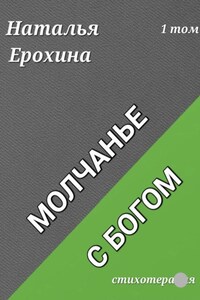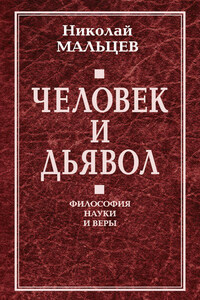Когда-нибудь и ты уйдёшь,
как дома, крытые толем, раковина на тумбочке,
щербатое зеркало в радуге или слово «лебедь»,
и читать про ту жизнь будет
как разбирать некоторые обороты
«Слова», сгоревшего при пожаре.
Мне так хотелось
сжать стихотворение в одно «сейчас»,
в одно слово в зазоре у времени,
избавившись от длительности.
И там, где удавалось,
играет аккордеон —
под платаном на «Бродвее», недалеко от порта,
я вижу
глаза музыканта, серую кепку,
выцветшую офицерскую рубашку.
Стихотворение, что я не написал,
похоже на стойку для ножей,
которые вложили в него
всей дюжиной, – что-то вроде
строения голубиного крыла или тела
воздуха-себастьяна – не наше ли общее существо?
Со старостью приходит правда,
что убивает всё лишнее в тебе и в языке
и никак не убьёт (слишком жадно
живём мы лишним, мой бедный Лир!),
и слова говорят на разные голоса,
и почти все они лживы.
Остаётся интонация, напев, у каждого языка
свой собственный.
Но и это мы вскоре утратим.
И всё же
остаётся ещё воля, желание выстоять.
Услышать, может быть, пение ангела,
над которым посмеиваются, чуть повзрослев, дети,
сжатое, как взрыв в плитку пластика,
как полёт в пулю или трибуна в глаз рысака,
когда все слова – это одно слово,
и древо стоит над тобой, как лестница
с ангелами, у которых твоё лицо, твоя речь,
твои исполнившиеся желания
сейчас и всегда —
в тени платана,
у порта, где на горячем асфальте
играет аккордеон, и небо стоит
косо, как в разъёме рубанка,
в груди, обтянутой гимнастёркой,
вылинявшей на солнце.