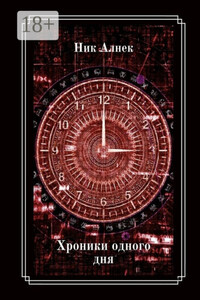Глава 1: Утро в кожевенной слободе
Новгород просыпался неохотно, кутаясь в клочья влажного утреннего тумана, ползущего от седых вод Волхова. Далеко, на Торговой стороне, уже звенели молоты в кузнях, скрипели немазаные колеса телег, переругивались грузчики у пристани. Но здесь, на Софийской стороне, в лабиринте узких улочек Кожевенной слободы, утро имело свой собственный, ни с чем не сравнимый запах.
Это была удушливая, всепроникающая вонь – смесь сырой крови, гниющей плоти, едкой золы и застарелой мочи. Запах, который въедался в дерево домов, в одежду, в кожу и волосы, становясь второй натурой для тех, кто здесь жил. Для Ратибора этот смрад был так же привычен, как дыхание.
Он стоял по колено в чане с мутной, белесой жижей – известковым раствором, в котором отмокали коровьи шкуры. Вода была ледяной, и холод пробирал до самых костей, но Ратибор, казалось, не замечал этого. Его обнаженный по пояс торс, уже широкий и бугристый не по годам, блестел от пота, смешанного с грязными брызгами. В руках он держал тяжелый деревянный шест, которым ворочал скользкие, тяжелые пласты кожи, не давая им слежаться. Каждый толчок отдавался напряжением в могучих плечах и спине. Мышцы, выкованные не праздными забавами, а ежедневным, изнурительным трудом, перекатывались под кожей, словно живые змеи.
– Сильнее жми, Ратибор, – раздался позади него низкий, чуть хрипловатый голос. – Та, что у края, совсем залежалась. Щетина колом встанет, не выдерешь потом.
Велеслава, его мать, стояла у колоды для мездрения. Она не выглядела как скорбящая вдова или измученная трудом женщина. В ее фигуре, широкой в кости, крепко сбитой, все еще угадывалась несокрушимая мощь воительницы. Даже сейчас, в простой холщовой рубахе и портах, перепачканных грязью, она двигалась с хищной экономией сил. Ее руки, покрытые сетью старых белесых шрамов и свежих мозолей, сжимали тяжелый скребок с той же уверенностью, с какой когда-то сжимали рукоять боевого топора.
Одним точным, сильным движением она содрала с растянутой на колоде шкуры пласт мездры – остатки подкожного жира и мяса. Слизь и кровь брызнули в стороны. Велеслава даже не моргнула.
– Новую шкуру вчера приволокли. От быка, что вчера на празднике резали, – продолжила она, переворачивая шкуру. – Радим бы обрадовался. Толстая, без парши. Такие сапоги из нее вышли бы – век носи.
При упоминании отца Ратибор на мгновение замер. Радим. Отец. Прошло уже почти полгода с тех пор, как моровая язва, черная холера, выпила из него жизнь за три страшных дня. Отец был не таким громадным, как сын, но жилистым и упрямым, как старый корень дуба. Он знал о коже все: как вымочить, как размягчить, как выдубить так, чтобы она пела под ножом. Это он научил Ратибора этому смрадному ремеслу, и теперь каждый клочок кожи, каждый чан с золой напоминал о нем.
– Он бы сказал, что я ленюсь, – глухо ответил Ратибор, с новой силой налегая на шест. Ледяная жижа плеснула ему на грудь, заставив поморщиться.
– Он бы сказал, что ты вымахал в два раза шире него и скоро пробьешь головой нашу крышу, – Велеслава усмехнулась уголком рта, но в глазах ее не было веселья. – И был бы прав. Давай, вытаскивай ту, что с краю. Пора скоблить.
Совместными усилиями они вытянули из чана огромную, осклизлую шкуру. Она шлепнулась на дощатый настил двора, источая новую волну смрада. От нее веяло могильным холодом и тленом. Тучи жирных, зеленых мух, жужжащих, словно натянутая тетива, тут же облепили ее. Ратибор схватил шкуру за один край, Велеслава – за другой, и они потащили ее к колоде. Она была тяжелой, неподатливой, словно мертвое тело.
Пока мать закрепляла шкуру, Ратибор взял свой скребок. Инструмент был тяжелым, двуручным, с лезвием, заточенным ровно настолько, чтобы сдирать волос и эпидермис, но не резать саму кожу. Работа была монотонной, грязной и требовала огромной физической силы. Сантиметр за сантиметром он счищал размокшую щетину, которая сходила вместе с верхним слоем кожи грязной, вонючей кашей. Пот заливал ему глаза, смешиваясь с вонью. Он дышал ртом, стараясь не думать о запахе, о холоде, о том, что эта работа никогда не кончается.