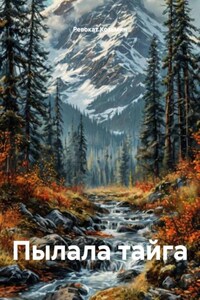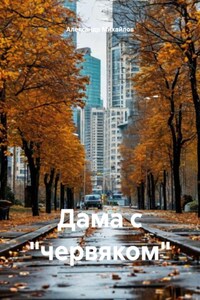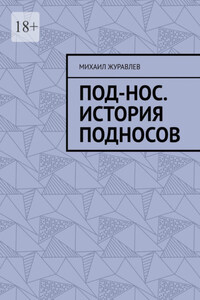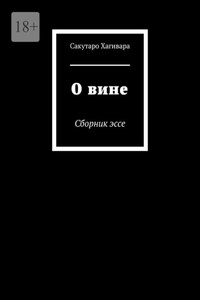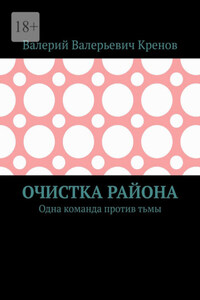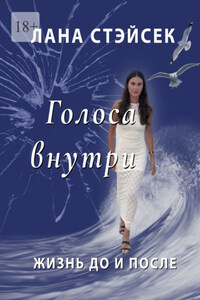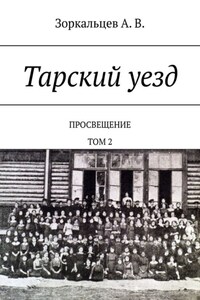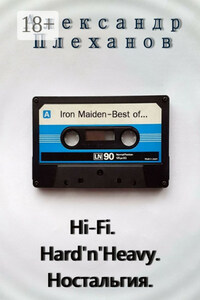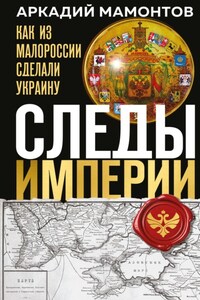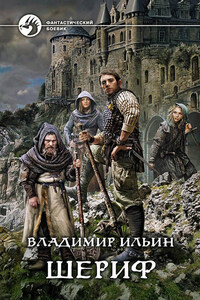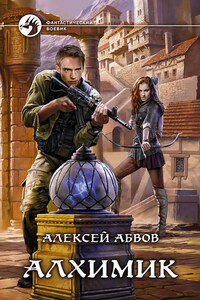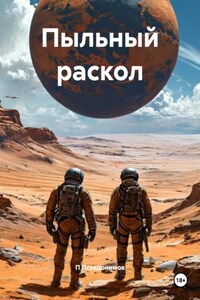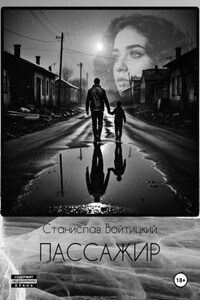Мы с хозяином неторопливо допивали чай. Морозными новогодними блестками искрился за окном погожий сибирский день. Селивановка просыпалась и приводила в порядок житейские дела после затяжного снегопада. Я напросился к Страховым на короткий постой, так как в Селивановке к тому времени гостиница была закрыта и выставлена на продажу. Еще по нашей первой вечерней беседы я понял, что в местной администрации мне не случайно рекомендовали познакомиться с Антоном Савельичем. Теперь я видел, что за всей простой мужиковатостью моего собеседника кроется его внимательное и умное восприятие того, что окружает Страхова, его способность быстро и точно реагировать на ту или иную ситуацию. Прирожденная мудрость, жизненный опыт и пусть даже заочное, но полезная учеба в Иркутском сельхозинституте, сформировали в нем неординарного руководителя, в которого сам по себе вырос тракторист Антон Страхов. За проявленную активность в сплочении бригады и деловые, толковые выступления на собраниях колхозников, его избрали вначале депутатом сельского совета, а затем с преобразованием села и поселкового совета, а впоследствии доверили ему должность председателя и на этот пост он избирался ни один раз. Родившийся в Селивановки Антон Савельевич был ее кровной составной, ее пульсом, душой и сердцем.
– Слава Богу, кажись улеглось, – говорит старик, нарушив молчание, и ставит большую фарфоровую кружку на стол. – Язви ее, метет и метет, конопатит, и конопатит, – продолжает он. Ведь в любую щелку залезет, зараза. Бывало закупоривало и трубу, – хозяин поворачивает голову в сторону большой, известью побеленной печи традиционной русской кладки. Если день печку не топить – трубу снегом забьет по самую заслонку.
И пошто-то большей частью по ночам все происходит. Утром, понимаешь, без лопаты к туалету не пробиться, – прищуривая глаз под седеющей седой бровью, дед Антон смотрит в окно, за которым белым-бело раскинулось привольное, блестящее на солнце серебряное снежное раздолье, прикрывшее под собой ледяной панцирь Тунгуски. На краю этой широкой полосы, на том берегу реки, щетинистым взгорьем взбежала к самому небу да замерла, опаленная студеными ветрами, древня тунгусская тайга.
– В ум не могу взять, как это наши предки из Руси сюда, не ближний свет, пехтурой, на своих двоих добиралися. Ох, далековатенько шагать им приходилося, возьми, с Бела моря или от Волги. Представляешь, сколь одних обуток и штанов истрепать надо, штобы через чащобу сибирскую, по каменьям и болотине пробираться. А взять моих дальних предков, дак тем ишшо при царице-матушке Катерине второй, после пугачевской смуты, в коей они и с боку-припеку, может, не гуляли и то власти принудили их с Дону перекочевать за Байкал, на Даурские земли. Мои предки, к примеру, поселились на реке Онон. У границы с монголами, на диком берегу засеки соорудили и станицу освновали, выстроили наблюдательные посты. Все чин-чинарем, как положено быть, сделали, стали обживаться, укреплять заслон от монгольских набегов. Несли службу справно, хозяйством обзоводились, подружились с кочевыми бурятами, которые немало страдали от бандитских налетов монгол и увидели в казаках надежных защитников. Считай, жили-не тужили, землю пахали, добро наживали и детей ростили. Проживали по своим казачьим устоям вплоть до другого большого восстания, октябрьского, в семнадцатом.
Тогда спасаясь от красных, с Запада к манчжурской границе бежал со своей гвардией атаман Семенов. Он хотел было пополнить ряды кавалерии ононскими казаками. Но те собрали свой круг, на коем дружно решили не покидать насиженных мест, служить Отечеству, стеречь и далее расейскую границу.