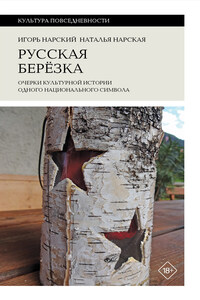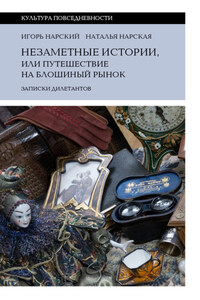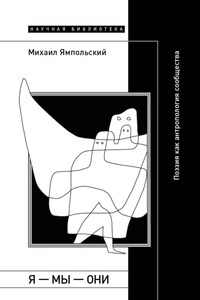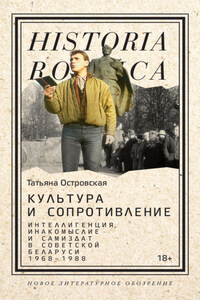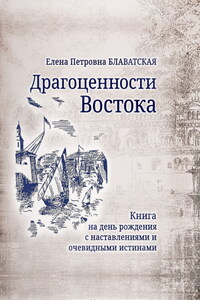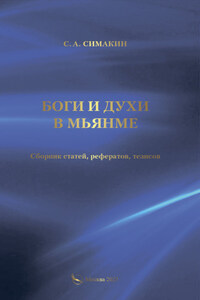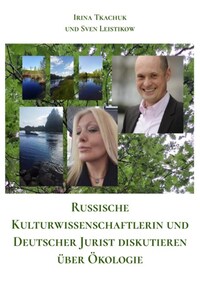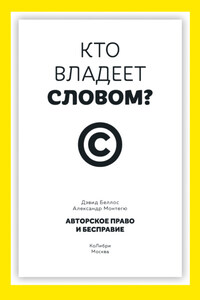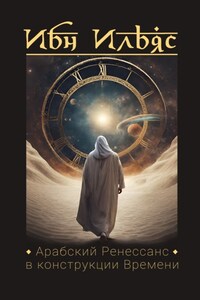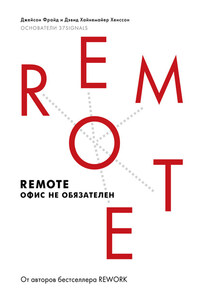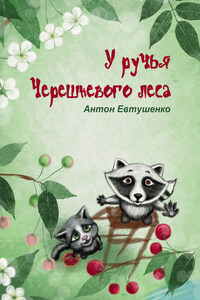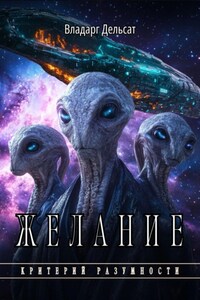Общий принцип теории действия в том и состоит, что исполненное действие отличается от задуманного.
А. Щюц, 1971[1]
Эта история началась давно, в разгар перестройки. Мы, 25-летние недавние выпускники истфака юного провинциального университета, частенько собирались в гостеприимной квартире одного из нас, Бориса, и его милой жены Оксаны. То было время больших надежд и открытий. Мы жадно читали и живо обсуждали публикации в центральных газетах и толстых журналах, открывали новые имена и старательно наверстывали знакомство с авторами и текстами, ранее запрещенными. Борис, образованный, пожалуй, лучше всех нас, был душой компании, главным спикером и модератором наших дискуссий. Он додумывал мысли до конца и высказывался однозначно и решительно. В то время как начинающий директор школы Юрий сомневался, можно ли рассказывать школьникам о неожиданных разоблачениях в СМИ непредсказуемого советского прошлого, Борис настаивал на том, что о необратимых переменах в советской политике можно будет говорить только тогда, когда наши войска будут выведены из Афганистана. К его мнению мы прислушивались.

Декоративное панно «Березка». Конец 1970-х – 1980-е
Иногда застольные разговоры и танцы до упаду прерывались ради нового фильма. Не помню, смотрели ли мы вместе литовский фильм «Воскресный день в аду», снятый в 1987 году Витаутасом Жалакявичюсом по собственному сценарию совместно с Альмантасом Грикявичусом и Автандилом Квирикашвили. Фильм повествует о двух беглецах из нацистского лагеря для советских военнопленных, которые вынуждены один день летом 1944 года провести на балтийском взморье, на пляже для отдыхающих офицеров вермахта и СС. В картине есть сцена, где не владеющий немецким Денис (Владимир Богин) вынужден танцевать среди берез с пьяной дочерью епископа Ингеборгой (Ингеборга Дапкунайте), которая едва ворочающимся языком рассказывает не понимающему ее советскому моряку: «Нравятся тебе березы?[2] Мой жених писал из России, что там березы, как у нас. Представляешь? Немецкие березы в русской пустыне…»[3]
Не помню я и того, обсуждали ли мы картину в гостях у Бориса и Оксаны. Но несколько дней спустя после трансляции фильма Борис рассказал мне (мы тогда работали вместе, вернувшись после защиты кандидатских в alma mater) о разговоре с женой. В своих рассуждениях о незавидной судьбе советского патриотизма он упомянул и сцену из фильма, в которой образ «русской березки» оказался не столь уж непоколебимым. Спокойно относившаяся к прочим критическим высказываниям мужа Оксана неожиданно вспылила: «Только березку не трогай!» В тот раз мы беззлобно рассмеялись, да и только. А само выражение стало для нас метафорическим маркером для определения границы, заступать за которую в дискуссии нельзя.
Разговор в конце 1980-х я считаю первым импульсом к проекту, которому посвящена эта книга. Именно тогда, вероятно, я обратил внимание и на собственное внутреннее беспокойство, вызванное покушением на «русскость» березы, и на сильную эмоциональную реакцию участницы диалога, резко оборвавшей его.
Вскоре мне вспомнился эпизод из фильма Жалакявичюса и рассказ Бориса о разговоре с Оксаной. В вагоне московского метро я, как многие в те годы, коротал время за книгой. В тот раз это была повесть Сергея Довлатова «Заповедник». На первых страницах я наткнулся на резкое высказывание писателя о любви к березке: «Я думаю, любовь к березе торжествует за счет любви к человеку. И развивается как суррогат патриотизма…»